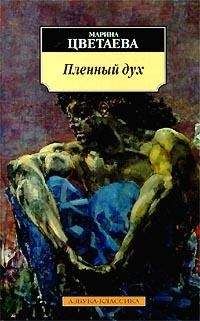Людмила Бояджиева - Марина Цветаева. Неправильная любовь
Вот и «дома»! Поселок среди сосен — типовые темно-зеленые дачи с застекленными верандами. Не успел раздаться гудок машины, как из калитки бросился им навстречу Сергей.
«Это того стоило!» — решила Марина, простив за минуты общего счастья встречи все мучительства и унижения, пережитые обиды. Сразу же сразили два обстоятельства — соседство с чужими ей людьми и все тот же ненавистный деревенский быт. Клепинины — интеллигентные, образованные людьми — одного круга с Эфронами, знавшие стихи Цветаевой, симпатии у последней не вызвали. «Чекисты» — вроде чесоточных, хочется посторониться и помыть руки.
«Той России нету, как и той меня»
Надо было обживаться на новом месте, входить в хозяйственные дела. Денежных затруднений не возникало: Сергей Яковлевич получал зарплату в НКВД. «Болшево, — записывает Цветаева, — неизбывная черная работа, неуют…»
А как тяжко стало остальным обитателям! С приездом Марины Ивановны обстановка на болшевской даче обострилась и помрачнела. Дмитрий Сеземан вспоминает: «Не знаю, нужно ли рассказывать, каким невозможно трудным человеком была М. И. «в общежитии», как принято говорить. Как человек с содранной кожей, она чрезмерно — чрезмерность вообще отличала ее поведение и, шире, ее личность — реагировала на все то, что, по ее мнению, сколько-нибудь задевало цельность ее духовного существования…» Увы, далеко не только духовного. Цветаева была не из лучших соседок; могла взорваться и взрывалась по пустякам. «Трудный характер» Цветаевой расцвел на почве общего беспокойства, озлобленности, неопределенности этого дачного коммунального существования: Арест? Полуарест? Что же дальше? В сущности, все они здесь были узниками и догадывались об этом. Но ни часа расправы, ни степени ее жестокости не знал никто. Откуда взяться терпимости и спасительной силе духа? Тем более «человеку с содранной кожей»?
А было ли легче Сергею Яковлевичу? Груз, давивший его душу, постоянные недомогания, страх перед будущим и особенно — обостренное чувство вины за все, что привело их в этот дом, — достаточный список для тяжелого душевного расстройства. Но тщедушный человек, на исходе физических сил, находил в себе мужество не паниковать, не ныть, поддерживать мир в доме. И, как это ни странно звучит — он ухитрялся наслаждаться мгновениями тихого счастья, ценя последние крохи их общего бытия, которые-то и в «благополучии» последних лет выпадали редко.
Когда спадала жара, по усыпанной сосновыми иглами дорожке к станции шли трое: высокий болезненный мужчина лет 45 в белой рубашке с отложным воротничком, смуглый от загара, с красивой седой головой и легкими движениями. Рядом твердо шагала его спутница — порывистая, худая, коротко стриженная. В этой женщине с папиросой во рту, в темном ситцевом платье никто не узнавал гениальной Цветаевой. Пухлый неуклюжий парень — всегда безукоризненно одетый и причесанный, всегда скучающий и равнодушный к закатам, — старался идти чуть поодаль сомнительной парочки. Садящееся за елки солнце окрашивало мир идиллической розовостью покоя и радости. Позолота и нежность небесно-клубничного на всем — даже на ветхом, загнившем, умирающем. Щедрый дар. Семья отправлялась на станцию встречать Алю. Они гуляли по платформе, пропуская электрички, пока не появлялась, наконец, нагруженная коробками, свертками, авоськами сияющая Аля, часто в сопровождении стройного брюнета. Ее венецианские глаза драгоценно сверкали, светились золотыми паутинками разметанные ветерком волосы…
«Никогда я не буду уже так счастлива…»
Смеясь и шумя, расходились дачники, встретившие своих, их Ждали оранжевые абажуры на верандах, самовар, чай с ватрушкой и глупые разговоры о завязях кабачков и нашествии муравьев… Какое невероятное счастье!
«Неужели в этой стране хоть кто-то не дрожит, не прислушивается к шуршанию шин по дорожкам?» — думала Марина.
«Неужели я один умудрился влезть в самый омут и погубить всех?» — думал Сергей.
«Сказочное везение, что мы встретили друг друга и впереди огромная жизнь!» — думали вместе обнявшиеся Аля и Муля.
Мур прокручивал русский вариант стиха Рембо. Он решил стать филологом и заниматься переводами.
Пес Жирняга встречал всех еще у поворота, виляя обрубком хвоста и высоко подпрыгивая.
Он вовсе не был толст — что делать, фигура такая!
Они умудрялись найти радость в издевательски тягостной атмосфере — «у бездны страшной на краю». Были вечера и разговоры у камина, Цветаева читала свои стихи и пушкинские переводы, а знаменитый актер Д.Н. Журавлев отрывки из «Войны и мира» Толстого. Цветаеву согревали прогулки с Эмилией Литауэр (Милей), «возвращенкой», сотрудницей и другом Эфрона и Клепинина. Она запомнила яркую радость поездки на только что открывшуюся Сельскохозяйственную выставку. Так и застыла в памяти картинка: у водяного хоровода золотых теток, под радугой брызг смеющаяся Аля в красном чешском платке, подаренном Мариной, и держащий ее за руку молодой мужчина с мокрым кудрявым чубом и ослепительно-счастливой улыбкой. Благослови их, Господи…
Эти месяцы Цветаева пребывала в замкнутом кругу родных, соседей, нескольких знакомых. «Живу, никому не показываясь» — она не делала попыток выйти в литературный мир, получить работу, опасаясь навредить людям контактами со своей опороченной персоной. Но желание вопреки всему встретиться с Пастернаком — заноза в сердце, не дающая покоя. Она позвонила, он обещал приехать, но друзья Борису Леонидовичу отсоветовали. Марина поняла, что посещение дачи НКВД и впрямь опрометчивый поступок для поэта. Но встреча все же состоялась. В тесной комнатке Елизаветы Яковлевны Эфрон, отважно принимавшей у себя опальную родственницу.
Внешность Марины удивила золовку — «она была совершенно иная, дамская. В нормальном платье, гладкая (без челки, вся в «невидимках»), аккуратная, седая. И сын как будто вырезанный из розового мыла». Борис Леонидович — огромный, уже в дверях и совершенно немыслимый в тесной двухкоечной «каюте», чувствовал себя неловко. После 13-летней эпистолярной дружбы-любви-страсти — поразительной по интенсивности, взлетам, провалам, уникальной по качеству литературного мастерства — случилась встреча реальная. На столе синие чашечки с золотыми донышками. На подоконнике скудная герань. А у окна — нога на ногу — юноша с презрительным лицом листает какую-то старую книгу на английском языке.
— Собрались все же приехать, — Борис Леонидович поцеловал трудовую руку Марины и положил на стол букет изрядно привядших ромашек. — Полем шел, они так весело стояли… Поздно… — Он сел на резко взвизгнувшую кровать и повторил: — Поздно… — Очевидно, не только про ромашки.