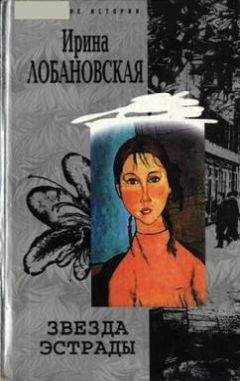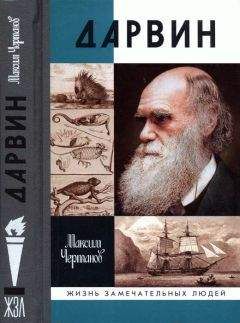Максим Чертанов - Диккенс
2 августа Диккенс начал свой первый тур (80 выступлений) в Шотландии и Ирландии; Джорджине он позволил пригласить Кэтрин пообщаться с детьми, но только в ее присутствии. Но когда мисс Куттс написала ему, что к ней в гости приходила Кэтрин с младшими детьми, он отвечал (23 августа): «С тех пор как мы говорили о ней в прошлый раз, она причинила мне ужасные душевные страдания; и я должен откровенно сказать Вам, что она никогда не заботилась и не заботится о детях, и они никогда не заботились и не заботятся о ней. Отвратительный спектакль, устроенный в Вашей гостиной, — ложь от начала до конца, это ее притворство… Я не хочу знать ее больше. Я хочу простить (за что? — М. Ч.) и забыть ее… От Уолтера, который далеко в Индии, до малыша Плорна, они все знают, что я пишу правду. Она всегда смущала их; они всегда смущали ее; и она рада избавиться от них, а они от нее».
Кейт вспоминала, что за время отсутствия отца она ходила к матери чаще других, — за это отец два года с ней практически не разговаривал. Он всегда был нетерпим — вспомним его ужасные ссоры с издателями и скандалы с Форстером, — но теперь словно бес какой-то в него вселился… Зато перед отъездом он позаботился о семье Тернан: Фанни (с матерью) послал во Флоренцию брать уроки оперного пения, для Марии и Эллен снял дом в Лондоне на Оксфорд-стрит и оплачивал его. (Однажды вечером их задержал полисмен, приняв за проституток, — Диккенсу пришлось через знакомого в полиции улаживать эту историю.) Масла в огонь подлили братья, Фред и Огастес, одновременно бросившие своих жен (Огастес от своей бежал в США). А надо было каждый день выступать… Читал Диккенс теперь не только «Песнь» — еще и отрывки из «Сверчка за очагом», «Колоколов», «Пиквика», «Чезлвита», «Крошки Доррит».
Увы, не было телевидения, и нам не представить, как он читал: судя по отзывам, это было не писательское, но актерское чтение — без бумажки, на разные голоса, с разными лицами, и выходило великолепно, во всяком случае в зале стоял то всеобщий хохот, то плач. Не доверял импресарио, сам проверял все — акустику, газовое освещение, ступеньки, занавес. Пирсон: «Во время гастролей он очень редко останавливался у друзей или знакомых и почти никогда не бывал на приемах или банкетах. Он считал своим долгом держаться в отличной форме, думать только о работе и избегать общества. Вся жизнь его проходила на бегу: с вокзала — в гостиницу, из гостиницы — на сцену, со сцены — на вокзал».
15 ноября он с триумфом и деньгами вернулся в Лондон, выпустил прощальный номер «Домашнего чтения» и стал готовить первый выпуск (к апрелю 1859 года) новой еженедельной газеты «Круглый год»; совладельцем и помощником редактора стал верный Уиллс, издательство разместилось почти рядом с бывшим «Домашним чтением», и он просто перевез мебель (включая и личную, из комнаток наверху) из дома 16 в дом 26.
Основные авторы последовали за ним: Коллинз, Гаскелл, Троллоп, к ним прибавились видные теперь романисты Джордж Мередит, Чарлз Рид; их работы в отличие от «Домашнего чтения» публиковались не анонимно. По содержанию «Круглый год» остался тем же, но с большим креном в литературу и меньшим — в публицистику и имел даже больший успех, нежели «Домашнее чтение». Кроме того, он одновременно должен был выходить в США, так что если тираж «Домашнего чтения» колебался между 35 и 40 тысячами экземпляров, то новая газета в совокупности имела тираж 100 тысяч — потрясающий коммерческий успех. Диккенса зазывали читать в Штатах, он отказался — возможно, из-за нежелания расстаться с Эллен (взять ее с собой в пуританскую страну было немыслимо), — но признавался Форстеру, что денежные посулы американцев «кружат голову». Возможно, другой причиной нежелания ехать был только что начатый роман — о Великой французской революции.
Он прочел «Французскую революцию» Карлейля и считал это достаточным: излишним «копанием» в источниках никогда не страдал. Дюма, которого принято считать легкомысленным, перелопачивал десятки исторических трудов, написанных с разных политических позиций, и в своем цикле о Великой революции подробнейше разобрал все нюансы: в чем было расхождение между позициями Марата и Робеспьера в конце 1791 года, а в чем — месяц спустя… Диккенс в своей «Повести о двух городах» не собирался писать о политике вообще. По Карлейлю, революция была хоть и ужасна, но вовсе не беспричинна: обжорство и мерзость правящего класса довели голодающий народ до отчаяния. Этого было достаточно, чтобы описать ситуацию поэтически: «…на каждом детском и взрослом лице, на каждой старческой — давней или едва намечающейся — морщине лежит печать Голода. Голод накладывает руку на все, Голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья, развешанного на заборах и веревках; Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соломой, опилками, стружками, клочками бумаги; Голод заявляет о себе каждой щепкой, отлетевшей от распиленного полена; Голод глазеет из печных труб, из которых давно уже не поднимается дым, смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти какие-нибудь отбросы… Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему: узкая кривая улица, грязная и смрадная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится голытьба в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит исподлобья мрачным, насупленным взглядом, не предвещающим ничего доброго».
Нюансы политики, этапы революции — а ее делала отнюдь не только «голытьба» — для Диккенса ничего на значат; не интересуют его и диктаторы, он видит одно — ужас толпы (собственно, он пишет не о французской революции, а о какой-то абстрактной): сперва толпа еще не ожесточившееся, но просто голодное животное; вот большая бочка с вином упала и разбилась на улице:
«Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или ничего-не-делание, и ринулись к месту происшествия пить вино… Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить женщинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев; другие — и мужчины и женщины — черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с головы, и тут же выжимали его детишкам в рот; некоторые сооружали из грязи нечто вроде плотинок, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны ручьям; а кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал и даже грыз набухшее вином дерево».
И вот та же толпа, но добравшаяся до оружия: