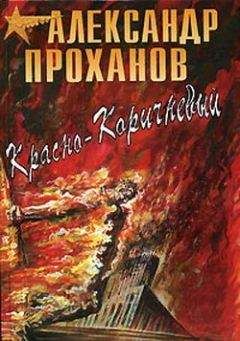Александр Авдеенко - Наказание без преступления
12 мая 1943 г.
Сегодня получил твое письмо от 2 мая. Долго не распечатывал. Беспрестанно поглядывал на розовый конверт, и сердце млело от предвкушения радости. Думал о тебе, о тех часах, когда ты, глубокой ночью, творила послание мужу на фронт. Волновало меня то, что я снова услышу тебя, снова прикоснусь к тебе. Все, что ты ни написала 2 мая, — по душе. Твои письма, как и мои, — одинаковы.
Я бы хотел, чтоб они всегда были одинаковыми — полные большой, глубокой, уверенной любви.
Написал «уверенной» и подумал о том, что ты никогда не боялась, что на моей белоснежной тоске по тебе может появиться темное пятнышко. Любонька, сомнения в моей верности и в самом деле не приходят тебе в голову или ты не позволяешь им выливаться на бумагу? Или, может быть, ты думаешь, что я живу на острове, где нет никаких соблазнов?
У нас тут много женщин. Я, конечно, поскольку живой человек, потихоньку иногда заглядываюсь на них. Но, боже мой, какое огромное пространство лежит между мною и ими даже тогда, когда я с ними разговариваю. Они это чувствуют и чуждаются. Больше того, ненавидят. Но еще больше я их ненавижу за то, что они в своих отношениях с мужчинами неразборчивы.
Тебя не удивляет, почему я вдруг разговорился на эту опасную тему? Рано или поздно надо было ведь поговорить.
Знаю, ты улыбаешься: дыма без огня не бывает…
Не бывает!
В соседней с моей комнатой живет веселая женщина. Ее муж воюет на Южном фронте. Стена пробита осколком, и мы поневоле слышим все, что там творится. Не скучает солдатка. Каждый день принимает гостя. И при всем при этом чувствует себя на седьмом небе, когда от мужа получает весточку. И ему посылает письма. В чем же дело? Что толкает ее в омут измены? Голод по ласке? Любопытство, присущее большинству мужчин и женщин? Было оно у Евы и у самой богоматери в пору ее девственности. Любопытство чаще всего приносит не радость, а несчастье, потери себя как личности, разрушение самого прочного фундамента любви и семьи…
Вон как расфилософствовался!.. Зачем я, дурак, заговорил об этом? Самому противно. Искренне верящий человек скромен в своей вере, не выставляет ее напоказ. Еле сдержался, чтобы не разорвать письмо. Ладно, посылаю. Пусть будет еще и такое письмо.
Два часа ночи. Ложусь спать. Вернее, попытаюсь уснуть. Где-то в саду, на берегу освещенной луной Невы, сладострастно заливается соловей. Наверное, он виноват, что я выставил себя перед тобой в таком виде — заговорил о запретном.
Фронт, смерти — и ревнивое сомнение. Смешно. Пошло.
8 мая 1943 г.
Неужели четыре месяца мы не виделись? Неправда! Я только вчера расстался с тобой: чувствую тепло твоих губ, твою негасимую влюбленную улыбку. Пройдет еще четыре месяца, пройдет целый год, но ты будешь жить во мне такой же реальной, свежей. Я впитал тебя не только в зрение и слух, но и в кровь.
Получила ли ты письмо, в котором были первые весенние полевые цветы? Не смутил ли тебя желтый цвет? Других, Любонька, не было…
Если бы любимые знали, как достается нам каждый прожитый день. Ждете вы писем, огорчаетесь, когда их нет один-два дня, и не подозреваете, как мы близко находимся от того пространства, откуда никаких писем не приходит.
Много в эти дни лазал по передовой. Все больше и больше влюбляюсь в воюющий народ. Какие люди! Если бы ты, Любонька, увидела, как они живут на переднем крае. Не замечают трудностей. Смерть презирают. И все очень жадны к веселью, к смеху. Во всех окопах и дзотах, где я был, говорили о самых серьезных делах, но смешно, лукаво, с сознанием своего превосходства над немцами. Осажденными себя не чувствуют.
Вижу войну собственными глазами — не придется ничего выдумывать, когда буду писать рассказ, повесть, очерк.
Вернулся в редакцию воодушевленный.
Прошло только два дня, а меня уже снова тянет туда. Но надо написать о том, что увидел, услышал.
Написал. И представь, очерк напечатали в нашей дивизионной газете. Раздумали отлучать? Или получил отсрочку?
Май 1943 г. Ленинградский фронт.
Иду по земле, где гуляют тысячи смертей, или лежу в свежей воронке и думаю о том, как все-таки живуча в людях надежда на лучшее, как могуч человек тем, что и в такой обстановке способен строить большие планы.
Вчера, в окопах, прочитал в «Красной звезде» хороший, на всю страницу очерк Симонова «Сын Аксиньи». И не нашел в нем ничего такого, что было бы недоступно мне как писателю. Ты огорчишься: если так, почему же не реализуешь свои возможности? Потому что не имею ни газеты, ни типографии.
Будь у меня семь пядей во лбу, я бы не стал писать так, как Симонов, Толстой, Гроссман.
Дрозд хорошо подражает певчим птицам, но остается дроздом.
Пишу и буду писать по-своему. И каждому воздастся по труду. Тем, кто опередил меня на целых два года, — больше, мне, отставшему, — меньше. Может быть, ничего не достанется, если до конца войны не допустят к большему читателю. Время, время надо.
Недавно был в городе и собственными ушами слыхал телефонный разговор о себе редактора фронтовой газеты Гордона с влиятельным человеком из Большого дома. Редактор спрашивал, можно ли использовать Авдеенко в штате редакции как писателя. Влиятельный человек сказал, что решить этого вопроса не может.
Понятно теперь, Любонька, почему даже хорошие мои очерки не печатает «Красная звезда». Требуется решение САМОГО.
Обнимаю, целую, родная, милая.
18 мая 1943 г.
Только что вернулся с передовой в редакцию, где меня ждала пачка твоих писем и послание от Ортенберга. Не ждал. Думал, что обо мне забыли. Не могу писать, дрожат руки — от радости. Не знаю с чего начать — тоже от радости.
Каштаночка, я люблю тебя, — вот чем я должен начинать и кончать каждое письмо. Да, да! Не будь тебя у меня, я давно бы потерял надежду. Ты — родоначальница умнейших женщин, исток всего прекрасного, чистого, нежного, искреннего, верного. Все хорошее на земле исходит от таких, как ты. Преувеличение влюбленного? Нисколько. Я ведь знаю тебя уже семь лет. Впрочем, Я с первого взгляда разгадал, какая ты есть и какой будешь. Превзошла все мои предположения. Видишь, каким чутьем я наделен. Не скроешь свою душу, если даже захочешь. Все буду знать о тебе.
Да, Любонька, ты права — я должен жить не по чьей-то указке, а так, как подсказывает сердце. Да! Оно ведь самый искренний, самый верный советчик.
И терзаться тем, что сегодня сделал не то, что хотелось, тоже не следует. Сделаю завтра. Постоянное стремление к тому, что является твоей целью, — вот идеальный образ жизни. Быть сегодня лучшим, чем вчера, — это уже немало. Да! Я не могу пожаловаться ни на один день своей фронтовой жизни. Даже на те, когда писал тебе тоскливые письма. Они, эти дни, неизбежны. Вспомни, что тебе говорил Скосырев о дураках, отравляющих нам жизнь. Я ведь не каменный, Любонька. Может быть, самое лучшее, чем я обладаю, — чувствительность ко всякого рода человеческому несовершенству, прежде всего собственному.