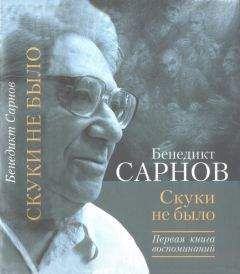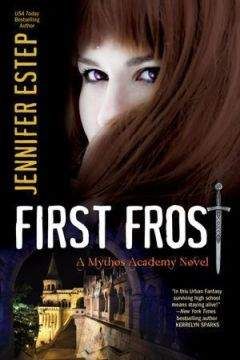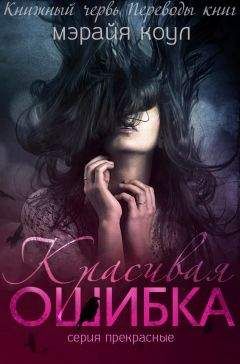Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
От души желаю Вам успехов в отстаивании истины о нашей заплеванной родине. Жму руку.
31.1.84. А. Солженицын.Но еще более сильное впечатление произвел на меня другой факт, сообщаемый тем же А. Д. Синявским в той же его статье.
На этот раз речь идет о другой книге, другого автора — некоего Петра Орешкина. Называется она — «Вавилонский феномен» (Рим, 1984).
Этот Петр Орешкин, если верить пересказу Андрея Донатовича, совершил множество чудесных открытий. Он, например, установил, что первоязыком всего человечества был древнеславянский язык и потому все языки мира, все культуры, мифы, письмена и рисунки (включая Японию, древнюю Мексику, Индию, остров Пасхи, египетские иероглифы и даже пещерные изображения) следует переиначить по-русски.
Далее в статье Синявского следует ряд цитат из книги этого Орешкина, из которых я приведу лишь самые выразительные:
Уже само имя «этруски» дает основание говорить, что были они древнеславянским племенем руссов — «Это-руски».
Римская Курия — это всего лишь «курилка», а философ Эпикур — переосмысленное опий куре.
А вот как объясняется происхождение слова «Прованс»:
«Прованяси», что, вероятно, объясняется «пикантным» запахом продуктов, изготовленных в Провансе: прованские сыры, капуста «провансаль» и т. п.
Все это, конечно, не заслуживало бы особого внимания (мало ли такого приходилось нам читать уже в те времена, а чем дальше — тем больше), если бы на обложке и этой книги тоже не красовалась рекомендация Александра Исаевича:
Многоуважаемый Петр Петрович!Могу представить себе Ваше отчаяние от предложения Вашей работы западным «славянским» специалистам. Еще независимо от истины — само направление Вашей трактовки им отвратительно и является одним из самых осудительных, что только можно придумать в современном мире.
Ну, во всяком случае, это очень дерзко и несомненно — талантливо.
Желаю Вам не приуныть, но преуспеть!
Александр Солженицын.Прочитав эти две «рекомендации» Александра Исаевича, я вспомнил обращенную к нему Борей Заходером — тогда еще скорее в шутку, чем всерьез — знаменитую отповедь Белинского Гоголю:
— Апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия — опомнитесь! Что Вы делаете!
Теперь эти слова уже можно было обратить к нему с полным на то основанием. И не в шутку, а на полном серьёзе.
7
В своей книге «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», в той самой её главе так талантливо озаглавленной «Через непродёр», которую я однажды уже цитировал, рассказывая о новой волне травли, обрушившейся на него уже в новые, перестроечные времена, Александр Исаевич еще раз упоминает мое имя:
А уж радио «Свобода» — там-то никогда против меня не дремали. Теперь надрывались тот же Сарнов, «получивший право критики», и Б. Хазанов, и иже, и иже — о несомненном антисемитизме «Красного колеса», — вот она, главная опасность, сейчас покатится на страну.
(«Новый мир», 2003, № 11)Не могу сказать, чтобы я так-таки уж надрывался, разоблачая антисемитизм «Красного колеса». Да и вовсе не антисемитизм был главным поводом для тогдашних моих нападок на Солженицына.
Несколько антисолженицынских текстов из тех моих выступлений по «Свободе» у меня сохранились. Самый резкий из них назывался: «С кем вы, Александр Исаевич?»
Начинался он так:
На многотысячных митингах и демонстрациях, проходивших в этом году в Москве, появились сперва одинокие, редкие, а потом все более многочисленные плакаты: «С КЕМ ВЫ, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ?»
Вопрос, конечно, интересный. И меня, не скрою, он тоже волновал. Но гораздо больше волновал меня другой вопрос. Вернее, тот же самый, но обращенный к другому человеку. И если бы каким-то чудом меня занесло в Вермонт и если бы удалось там организовать — пусть не многотысячный, а совсем даже малочисленный митинг, — я, несмотря на радикулит и другие старческие хвори, шел бы в первых рядах и нес плакат с этим волновавшим меня вопросом: «С КЕМ ВЫ, АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ?»
Вопрос этот возник у меня в связи с тем, что имя Солженицына, моральный авторитет Солженицына взяли на вооружение самые реакционные политические силы нашей страны. Они объявили — и продолжают объявлять — его своим союзником. Мало сказать — союзником. Своим вождем, своим знаменем. Своей священной хоругвью.
Быть знаменем в таких руках, мне казалось, ему как-то не к лицу. Но он не возражал. Никак этому не препятствовал Молчал.
Далее я — для наглядности — привел несколько цитат из сочинений тех, кто пытался сделать Солженицына своим знаменем.
Приведя все эти цитаты, я обратился к радиослушателям с таким — слегка лукавым, отчасти даже лицемерным — вопросом: неужели Александр Исаевич думает так же? А если нет, почему же он тогда молчит? Почему не отмежевывается от этих незваных союзников?
И тут же сообщал, что совсем недавно этот наш великий молчальник все-таки отверз уста. Высказался.
И далее — опять же для наглядности — привел некоторые из самых ярких его высказываний на эту тему:
…Токвиль считал понятия демократии и свободы противоположными. Он был пламенный сторонник свободы, но отнюдь не демократии… Милль видел в неограниченной демократии опасность «тирании большинства»… Австрийский государственный деятель нашего века Иозеф Шумпетер называл демократию — суррогатом веры для интеллектуала, лишенного религии… Как принцип это давно предвидели и С. Л. Франк: «И при демократии властвует меньшинство». И В. В. Розанов: «Демократия — это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет неорганизованным большинством».
Оборвав на этом перечень цитат, приведенных Александром Исаевичем, я — далее — ограничился тем, что перечислил лишь некоторых из упоминаемых им авторов:
Русский философ Левицкий… Папа Иоанн-Павел II… Рональд Рейган… «Наш видный кадетский лидер Маклаков»… Кажется, никого из тех, кто клеймил демократию, опасался демократии, предупреждал об изъянах демократии не забыл вспомнить и процитировать Александр Исаевич. И самых авторитетных назвал, и не слишком авторитетных — все ему пригодились. И неважно, что одно высказывание противоречит другому, что Милль видит в демократии опасность «тирании большинства», а Франк и Розанов утверждают, что при демократии меньшинство властвует над одураченным большинством. Важно, что и тем и другим демократия нехороша…
А заканчивалось это мое радиовыступление так:
…И Андрею Дмитриевичу Сахарову досталось от Александра Исаевича За чрезмерное увлечение борьбой за гражданские права, а также за то, что «скороспешно» стал сочинять параграфы новой конституции.
И в самом деле: зачем сочинять, когда не так плоха, оказывается, была и старая, сталинская конституция. «Справедлива, — объявляет Александр Исаевич, — нынешняя иерархия — союзных республик — автономных республик — автономных областей — и национальных округов. Численный вес народа не должен быть в пренебрежении…»
Эта солидарность главного ненавистника сталинщины с законодательным волеизъявлением «отца народов» просто трогательна.
Что можно к этому добавить? Разве только признать, что лозунг, с которым я мечтал выйти на воображаемый мною митинг в Вермонте, пожалуй, уже потерял актуальность. Вопрос — «С кем вы, Александр Исаевич?» — это теперь уже вопрос чисто риторический. Теперь мы знаем, с кем Александр Исаевич.
Как видите, в тогдашних моих атаках на Солженицына вовсе не антисемитизм его был моей главной мишенью. Но — что правда, то правда, — раза два, выступая по «Свободе», затронул я и эту щекотливую тему.
* * *Когда был напечатан «Иван Денисович», у меня был любопытный разговор о нем с Марьей Павловной Прилежаевой. (Она знала меня по «Пионеру»). Увидав меня в ЦДЛ, она вдруг кинулась ко мне как к родному и жадно стала расспрашивать: что я думаю об этом литературном событии. Я восторгался. Возражать она не смела (как возражать, если все присяжные борзописцы — и в «Правде», и в «Известиях» — хвалят взахлеб, да и ни для кого не секрет, что приказ хвалить спущен с самого верха). Но по тону ее я чувствовал, что сочинение это ей сильно не по душе.
В смысле литературной одаренности Марья Павловна была, что называется, на нуле. (Кормилась ленинской темой.) Но умом Бог ее не обидел, и она мгновенно поняла (а может быть, почувствовала — классовым, номенклатурным, верхним собачьим чутьем почуяла), что рядом с Солженицыным таким, как она, — не жить, что этот упавший с неба огонь, если вовремя его не погасить, сожжет их всех дотла.