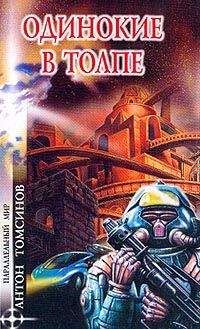Осип Черный - Немецкая трагедия. Повесть о К. Либкнехте
Но это было не так. Правые силы очень быстро уловили характер эбертовского кабинета и поняли, что в ближайшее время можно будет на него опереться.
«Все, что высказывает Эберт в своих воззваниях… правильно и умно, — написала вскоре буржуазная «Берлинер тагеблат». — Политические вожаки, получившие… власть в свои руки, заслуживают благодарности даже инакомыслящих, величие их будет признано историей».
После того как собрание в цирке Буша вверило судьбу Советов элементам аморфным и правым, враги революции стали смелее.
Когда сотрудники «Роте фане» явились на третий день, чтобы готовить очередной номер, наборщики «Локальанцайгера» накинулись на них с кулаками: их руками владельцы выполнили то, что было нужно им. И «Роте фане» перестала выходить.
Спартаковцы обратились в Исполком. Постановление Исполкома было направлено Эберту, и тот дал указание — словечко стало входить в обиход — освободить опять типографию для спартаковцев. Но указание было недостаточно категоричным, и газета не выходила. Только через неделю, связавшись с другой типографией, начали печатать ее вновь.
Тем временем малоприметный Отто Вельс вырос в фигуру крупного плана. Обосновавшись в комендатуре Берлина, он вкусил от власти, и плод ему понравился. Опустевшее учреждение с разбежавшимися сотрудниками начало обрастать добровольцами, новой охраной. Подбирали молодцов, верных Эберту. Каждому внушали, что важнейшей задачей комендантских частей является охрана нового порядка и борьба со смутьянами.
Охраняя порядок, они ворвались однажды в помещение «Роте фане» и стали бесчинствовать. Звонки сотрудников в комендатуру и протесты ни к чему не привели. Только насладившись этим маленьким опытом, Вельс отозвал своих людей из редакции.
В тот первый налет открылось любопытное обстоятельство: охранники не только вламывались в редакционные комнаты и рылись в столах — они кого-то искали. Имена разыскиваемых названы были не сразу. Оказалось, что это Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
— А зачем они вам? — враждебно спросили сотрудники.
— Это уж дело наше…
Так с первых дней делам, продиктованным волей народа, стали противопоставляться акции, производимые по таинственным указаниям.
Спустя некоторое время в редакцию уже ворвались с прямой целью обыска: все до основания перерыли и раскидали. Но им нужны были, кроме того, Либкнехт и Люксембург — они этого не скрывали. Точно у них свои счеты с ними.
Когда Роза Люксембург пришла в редакцию, возбужденные товарищи рассказали о новом налете. В своей рабочей комнате она слушала их с улыбкой очень опытного человека.
— Лучше было бы вам и Карлу работать в другом помещении.
— Где это видано, друзья, чтобы газету делали издалека? И притом революция в самом начале, а мы станем бояться?!
Либкнехту, пришедшему позже, тоже все рассказали. Он выслушал без улыбки, скорее сосредоточенно.
— Наглеют с каждым днем. И какой-то источник питает их… Прятаться? Это исключено, Роза права. Надо, наоборот, доказать молодчикам, что мы нисколько их не страшимся.
Сотрудники не решились настаивать, хотя очень опасались за судьбу Карла и Розы.
— Словом, работать будем, как прежде. Ко многому еще придется привыкнуть, если Совет депутатов будет вести себя так же бесхарактерно.
Карл и Роза остались в комнатке, которую за короткое время полюбили. Они научились среди доносившегося через тонкую стену шума сосредоточиваться на своем, обсуждать план статей, подбирать лозунги, с которыми газета обратится завтра к читателям, думать о том, что ожидает их впереди.
Здесь среди бурлящей и подчас грозной жизни создавались лучшие статьи и памфлеты Карла и Розы.
XVIIЛибкнехт чаще всего оставался ночевать там, где его заставало позднее собрание. Встретить его можно было и в редакции, и на рабочем митинге, где он слушал горячие речи, сидя в президиуме, или выступал сам, и на демонстрациях, частых в те дни, где он шагал в первых рядах вместе с организаторами, и на собрании активистов. Он пристрастно изучал биение общественной жизни: спады и подъемы, перебои и напряженность пульса глубоко занимали его.
Зная за собой одну черту — некоторую отвлеченность мысли, недостаточную ее заземленность, что ли, — он прислушивался к голосам людей, находившихся в гуще жизни.
Как-то после собрания, которое затянулось допоздна, ушли вдвоем — он и Кнорре. Либкнехт намотал на шею шарф, и все же ему было зябко; он растирал руки, стараясь согреться.
— Довольно противное время, надо было что-нибудь надеть под пальто.
— Так у меня жилет есть, возьмите, ради бога, — предложил Кнорре. — Мне и без того жарко.
— Ну уж, жарко…
— Ну да, кручусь целый день и спорю до хрипоты!
Жилета Либкнехт не взял: уверил, что если пойти чуть быстрее, то согреется. Разговор перешел к самому важному.
— Я скажу, товарищ Либкнехт, так: авторитет ваш огромен. Спросите любого рабочего, кому он доверяет больше и кто для него выше — Эберт, или Шейдеман, или Гаазе, или вы. Даю голову на отсечение, предпочтение будет отдано вам.
— Быть может, оно и так; хотя это требует еще проверки… И тем не менее на глазах у того же рабочего Эберт прогрызает революцию, как жучок-короед, подтачивает ее день за днем, а рабочий молчит!
— Эберт вовремя сообразил, что подбросить немцам в первую очередь: мир, демобилизацию солдат, возвращение к прежней жизни. Пускай этой жизни никогда больше не будет и нашего брата ждет безработица…
— А-а, так это вы понимаете? — обрадовался Либкнехт. — Если сколько-нибудь трезво проанализировать ситуацию, станет ясно, что его посулы чистейший блеф.
Эберт ведет вовсе не к замирению в стране. Его цель — обеспечить себе в неминуемых столкновениях как можно больше сторонников.
Кнорре согласился с ним и добавил:
— Учтите при этом, какие традиции у шейдемановцев и какой слаженный аппарат.
— Теперь они прибрали к рукам аппарат государственный. Я бы нисколько не удивился, если бы стало известно, что они якшаются и с военными.
— А то как же, якшаются. Без военных им придется туго.
Прошли уже изрядное расстояние от завода. Ни тот, ни другой не спрашивал, куда идут. Оба считали, что провожают друг друга. Кнорре спохватился первый:
— А мы ведь вовсе не к вашему дому идем.
Либкнехт честно сознался, что домой ему поздновато: не хочется будить жену.
— Бедняжка привыкла, что я по нескольку дней не являюсь. В общем, жаль ее: столько времени я отсутствовал, так и теперь почти не бываю дома.
— Такая наша жизнь, — заметил Кнорре коротко. — Тогда ко мне?