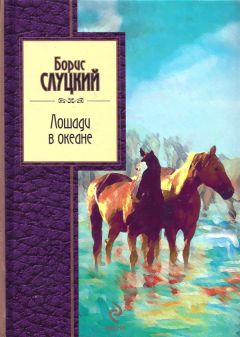Петр Горелик - По теченью и против теченья… (Борис Слуцкий: жизнь и творчество)
В этом на первый взгляд ироничном портрете очевидно серьезное подтверждение авторитета Слуцкого в поэтической среде, его индивидуальности и, конечно, теплого отношения к нему Самойлова.
После финской войны, вспоминает Самойлов, «…в компании наступил разброд. Какие-то личные сломы и катаклизмы. Со Слуцким было легче, чем с другими. Свои личные чувства он не любил выставлять напоказ…
Я продолжал питаться его соображениями и формулами, как личинка муравьиным медом. Он меня выкармливал, я ему подражал. И это надолго…».
В творчестве Кульчицкого и Когана были сильны глобалистские тенденции, идущие от идеологии двадцатых годов. У Слуцкого эти идеи не были развиты: он был политическим реалистом и патриотом. «Я усердно пытался ему подражать, но во мне не было той органики и убежденности, — признается не без сожаления Самойлов, — марксизм мешал откровенности… Он всегда умно и откровенно высказывался о моих стихах…»[308]
Во всех этих высказываниях Самойлова (они относятся к довоенному времени и к первой половине пятидесятых) никакой критик не сможет заподозрить недоброжелательности или враждебности. Но и более поздние дневниковые записи Самойлова свидетельствуют о дружбе и любви к Слуцкому. Приведем некоторые из них:
«8 апреля 1957 года. Вечером — рождение у Тимофеева… Около часа выясняли отношения с Борисом. Взаимные попреки… Разговор был горячий, но доброжелательный. Мы помирились и расцеловались. Я его люблю.
26 сентября 1962 года. Помирился со Слуцким. Нам в ссоре быть не подобает.
23 июля 1963 года. Долго и мирно разговаривал со Слуцким.
31 мая 1964 года. Борис человек образцовой порядочности и правил. Давно его люблю.
14 ноября 1968 года. С Борисом отношения все добрее. О стихах не говорим.
27 ноября 1968. Долго разговаривал со Слуцким. Снова потянуло друг к другу. Он симпатичен.
17 ноября 1974 года. Слуцкий мил и добр.
20 марта 1986 года. 23 февраля утром скончался Борис Слуцкий. Одна из самых больших потерь».
Тем, кто лично знал Слуцкого и Самойлова, эти цитаты совершенно не нужны для доказательства их взаимной приязни и дружбы. Из того же дневника можно было бы привести немало записей о несогласии, о «холодных» разговорах и встречах, о том, что его «поэзия взращена политикой» и от этого он много теряет и т. д. и т. п. Но резкие и нелицеприятные споры о поэзии не свидетельствуют о враждебных личных отношениях. Слуцкий и Самойлов — птенцы из одного гнезда: предвоенного литинститутско-ифлийского содружества поэтов, в котором царил «гамбургский счет» и которое не позволяло себе в творчестве быть «обществом взаимного обожания».
Мы не располагаем столь же большим количеством свидетельств и высказываний Слуцкого об его отношении к Самойлову как близкому другу. Слуцкий не вел дневника. Их частые встречи фиксировались Самойловым, и воспоминания о них могут создать впечатление односторонности оценки их дружественности. Но это ошибочное впечатление. Больного Слуцкого навещали люди, просившие разрешения прийти. Не всех он пускал, но Самойлова хотел видеть сам. Во время болезни Слуцкий пытался вспомнить прежде всего стихи Самойлова. Вот как об этом вспоминает Ирина Рафес.
«Однажды вошла в палату, а Боря сидит напряженный и сразу говорит:
— Нет памяти. Все утро не мог вспомнить строки из Дезькиного “Я — маленький, горло в ангине…”. Как я мог забыть, ведь это — классика!»[309]
Самойлов оставил о Слуцком воспоминания «Друг и соперник». Он их писал дважды и успел прочитать Слуцкому первый вариант.
«Слушая, он сильно краснел, что было признаком волнения. Выслушав, сказал несколько коротких фраз.
— Ты написал некролог… В общем верно… Не знал, что оказывал на тебя такое влияние…
Воспоминания те я сейчас перечитал. Они не справедливы. Они написаны в раздражении. Думаю, их можно дополнить, исправить»[310].
Этот первый самойловский текст подтолкнул Слуцкого к мемуарному очерку «После войны», где есть несколько чрезвычайно важных слов, относящихся к Самойлову и его воспоминаниям.
«Где я только не состоял! И как долго не состоял нигде. И так было десять лет — с демобилизации до 1956 года, когда получил первую в жизни комнату тридцати семи лет от роду и впервые пошел покупать мебель — шесть стульев, до 1957 года, когда приняли меня в Союз писателей.
Никто. Нигде. Нигде.
Может быть, хоть потомки учтут при оценке моих мотивов?
Мемуаристы не учитывают. Вчера Дезик читал мне свой мемуар со всем жаром отвергнутой любви, со всем хладом более правильно прожитой жизни.
Не учитывая»[311].
О мотивах чего пишет Борис Слуцкий? Надо полагать, своего выступления на московском собрании, посвященном Пастернаку. Чего не учитывает Самойлов, по мнению Слуцкого? Бытовых обстоятельств, единичных фактов, которые важнее идей и идеологии. Самойлов пишет об идеологии Бориса Слуцкого, не обращая внимания на прозу жизни, на бытовые обстоятельства. А они-то для Слуцкого важнее важного. В новом варианте, опубликованном в «Памятных записках», Самойлов не скрывает, что их дружба прошла огонь, воду и медные трубы. Но в тех же воспоминаниях есть слова, свидетельствующие о взаимном признании таланта и права каждого идти своим путем.
Борису Слуцкому, гораздо раньше, чем Самойлову, ушедшему из творческой жизни и из жизни вообще, не дано было дать общую оценку их отношениям. Это сделал Давид Самойлов в слове над гробом друга.
«Ушел Борис Слуцкий. Я немало мог бы сказать о нем. Мы дружили пятьдесят лет. Сегодня я скажу только о тех качествах, которые знают многие: честность, нелицеприятность, ум и строгость. Все эти качества являются частью поэтического и гражданского облика Слуцкого.
В военном поколении поэтов, богатом яркими талантами, Слуцкий был одним из признанных лидеров. Он был не только другом, он был учителем своих сверстников. У него мы учились верности гражданским понятиям, накопленным еще в пору раннего формирования в трудные 30-е годы.
Один поэт говорил, что “фронтовое поколение не породило гения, но поэзия поколения была гениальной”. Если это так, то Слуцкий был одной из составных частей этой гениальности.
Слуцкий казался суровым и всезнающим.
Те, кто близко его знал, хорошо понимали, что под этим жестким обличьем скрывалась душа ранимая, нежная и верная. Слуцкий не терпел сентиментальности в жизни и в стихах. Он отсекал в своей поэзии все, что могло показаться чувствительностью или слабостью. Он казался монолитом и действительно был целен, но эта цельность была достигнута преодолением натуры негармоничной, раздираемой противоречиями и страстями. Слуцкий всегда считал, что идеал не терпит предательства, и никогда не менял своих взглядов.