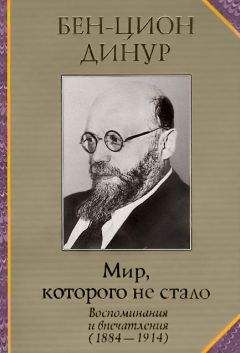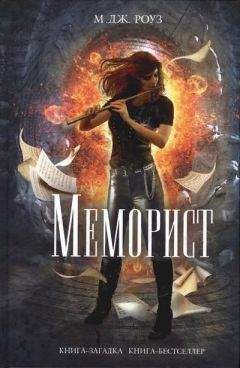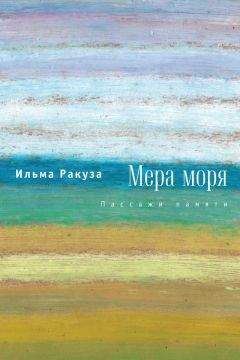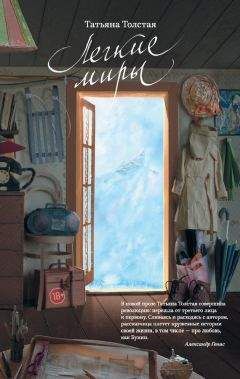Татьяна Михайловна Соболева - В опале честный иудей
Я не знала слова «нельзя» не потому, что росла ангелом во плоти, а потому, что мои родители, педагоги от Бога (не по профессии), умели предупредить или предотвратить мои опрометчивые, неправильные шаги. Я ни разу не была бита или унижена словом. Подзатыльники и шлепки не считались, очевидно, у моих родителей эффективным воспитательным средством. Мне редко делали замечания. Но если уж и случалось такое, то «карательная» мера содержалась не в обидных словах или выражениях, а в самом тоне упрека, порицания. Не могу объяснить почему, как, но некоторые из тех негромких «наказаний» запали в сердце на всю жизнь...
Мне было лет пять. Морозным зимним днем к нам пришла моя двоюродная сестренка, дочка папиного брата, девочка лет девяти. В этом возрасте - разница существенная, и она была «командиром». Мы поиграли немножко возле дома, а потом ушли к сестренке, их дом стоял примерно в полукилометре от нашего.
Я хотела было доложиться об уходе маме. Но «командир» посчитал это лишним. Весь день у меня на душе «кошки скребли»: я знала, что поступила неверно. Но всю жуткую глубину своей вины ощутила только тогда, когда к нам приблизился мой папа и, не повышая голоса, только с очень серьезным лицом сказал: «Мама весь день плакала: она не знала, куда ты ушла...» Вот и все. Но у меня похолодело внутри: я заставила маму плакать! Почему этого нельзя было делать, мне никто не внушал, это сложилось в сознании само собой и окаменело, застыло неизменным навсегда. Сохранить душевное благородство при хронической бедности - большое, по моему мнению, достоинство. Поистине целебным воздухом довелось дышать мне дома в пору детства и юности. Я не помню случая, чтобы за совместным застольем - обедом или ужином, отдыхая вечерком на маленькой террасочке, мои родители со злобой и завистью перемывали косточки тем, кто «сумел», «словчил», «достал»... Казалось, корыстолюбие не коснулось их честных, бесхитростных душ, мутный поток стяжательства и алчности протекал где-то вдалеке... Это было нечто к ним не относящееся, а потому и недостойное их внимания. Не стараюсь идеализировать или приукрашивать их. Но ведь бывают счастливые исключения?
Тогда я не могла, не умела осознать редкие достоинства своей семьи, оценить тот капитал, который вынесла из нее, отправляясь в самостоятельный путь. Мысленно возвращаясь в родное гнездо, с годами немало повидав и изведав, попробовав жизнь на зубок, научившись сравнивать, поняла, чем владею: способностью выбирать между грязной колеей, усыпанной бесчестными кредитками, и непростой дорогой, но освещенной ярким солнцем правды. Не обошлось и без некоторых разочарований: набив синяки и шишки на жизненном пути, я сделала открытие - мое воспитание начисто лишало меня надежного щита, без которого не избежать предательских ударов. Не всегда, оказывается, улыбка означает начало дружбы, не мешает увидеть в ней иногда и замаскированный оскал...
Я неспроста уделила своей персоне столько внимания. Сказанное поможет понять дальнейшее.
Александр Владимирович, насколько я могла судить по его скупым воспоминаниям, вырос в семье с иным укладом. Многое в ней делалось напоказ. Добродетели мужчины нередко определялись умением «добыть», «притащить в дом», и как можно половчее, побольше. Корнями такая мораль тоже уходила в скромное житье-бытье, но с иным к нему отношением. По-видимому, оттуда и шло у него чувство вины перед другими за нашу материальную скудость: он не добывал!.. Не давало покоя и ущемленное этим обстоятельством мужское самолюбие!
Мне трудно было согласиться, все это понять: мы словно пришли из разных миров. Мой мир и я - его производное - были в данном случае лучше, возвышеннее, тактичнее. Я не умела думать в такой плоскости, Я его не осуждала: к врожденному или привитому мне чувству долга надеждой на благополучное светлое будущее, как залог его, жили во мне поэтические строки, преподнесенные мне в начале нашего совместного пути:
Пусть небо обволакивает серой, несохнущей осенней простыней.
Но ни за что я не расстанусь с верой, покуда рядом ты идешь со мной.
Да, но жили мы не на необитаемом острове. Для окружающих нас не было секретом, что Александр Владимирович не имеет постоянной работы. В их головах не укладывалось: как это - муж не приносит домой пятого и двадцатого каждого месяца... пять или десять копеек из каждого заработанного им рубля. (Правда, о последнем они ничегошеньки не знали.) О том, что их эксплуатируют как ничтожных рабов, - понятия не имели. Но они работали! Вот что было их главным козырем. И вокруг меня «крещендо» зазвучал хор, распевавший на разные голоса две фразы: «Почему он не работает? Он должен работать!» Помните Мартина Идена?
И здесь сказался недостаток в моем воспитании: вместо того чтобы попросить всех не вмешиваться не в свое дело или, проще, послать всех куда подальше, я вооружилась вежливыми аргументами, терпеливо объясняла...
Тогда стало докучать мне хоровое исполнение «форте» другой фразы: «Он тебя недостоин!..» Господи! Но почему же?! Из-за чего?! Не очень-то лестное для меня признание, но под напором искусительного «пения» я вынуждена была обороняться сама перед собой контрдоводами: «Такую доброту, такую искренность и нежность, такую по-детски взаимную доверчивость я рискую потерять навсегда и впредь... не обрести никогда! А наша "кошка"?! Наше общее творение, редкостное и неповторимое, как новое чудо света!»
Не столь масштабно, как Мартин Иден, мой супруг, поэт Ал. Соболев, познал удачу, став автором прославленного произведения. Мне тогда припомнилось высказывание Л.Н. Толстого о силе самосохранения таланта, о его сверхспособности к выживанию. А что же мои радетели, а точнее - злейшие враги?
Оспаривать популярность «Бухенвальдского набата» было смешно: он не умолкал. А обыватель, ой, как боится попасть в дурацкое, нелепое положение. И теперь до ушей моих доносилось подкупаюше льстивое, угодливо-притворное: не будь меня, не добился бы поэт грандиозного успеха. Я с ними не спорила. И не потому, что лесть щекочет приятно самолюбие, такое мне чуждо. Я верила поэту. А он. умный и прозорливый, все расставил по своим местам, определил значение и моей помощи ему.
...Хоть век шлифуй слепой графит, пусть твой велик талант, графит, увы, не заблестит огнем, как бриллиант.
Из глины стали не сварить.
Из камня нити не скрутить.
Я не растрачивала силы и чувства в угоду человеку умеренных, средних способностей. Что ж, если поступилась чем-то в ущерб себе, то ради несомненного таланта, без сожаления помогла ему чем и как умела. Я не шлифовала слепой графит.
К счастью обеих «кошек», я слышала и слушала «благостное» пение родственников (за исключением мамы и папы, которые верили мне) ушами «кошки», «кошки» в двух лицах. И преображалось песнопение в нудный, несносный вой, от которого хотелось заткнуть «кошачьи» ушки. Наша «кошка», как бывалый штурман, вела нас по штормовому морю житейскому. Да, «кошка» жила, не подчиняясь ни годам, ни невзгодам, такая же милая, лукавая, с грустинкой - в глазах, очень-очень мудрая - нами нарисованный наш общий портрет. И прочность нашего союза была обусловлена верностью, общей приверженностью нас обоих правилам жизни, несколько отличным от человеческих.