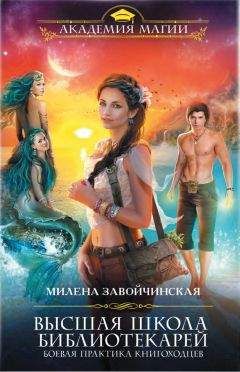Владимир Катаев - Чехов плюс…
И, конечно, только писатель со столь высокими, как у Солженицына, требованиями к слову способен сейчас придраться к тому, что он считает у Чехова «словесными срывами», – тому, что выпадает из «лексического фона», или написано «торопливо, комкано», или «избыточно». Вот за этими замечаниями профессионала об особенностях авторской речи, о композиции, о строении фразы следить наиболее интересно, как и открывать у живого классика способность к непосредственному читательскому отклику, к человеческому контакту с прочитанным у другого.
И столь же очевидно, что это очень субъективное, в чем-то пристрастное – впрочем, как же иначе мог бы Солженицын? – суждение, освещающее в первую очередь не Чехова, а того, кто это суждение выносит. И конечно же, солженицынское толкование отныне становится в ряд с самыми известными, порой не менее произвольными и субъективными словами о Чехове, звучавшими в ушедшем столетии.
Очень скоро становится ясно, что заметки (как и речь на открытии памятника) при внешней апологетичности – полемичны.
Внешне – о том, «что я люблю, ценю в Чехове».
А по умолчанию, почти без прямого формулирования – и о том, «чего, по-моему, не хватает Чехову». И – «в чем слабости Чехова».
Особенно это бросилось в глаза в речи при открытии памятника. Памятник открывался в тот день, когда праздновали столетие МХАТа, чеховского театра. Но напрасно ждали присутствовавшие от Александра Исаевича каких-то слов, соответствующих моменту: о пьесах Чехова в довольно протяженном его выступлении не было сказано практически ничего. И, если учесть своеобразие момента, те же дифирамбы рассказам о степи, те же высочайшие оценки «Полиньки», «Верочки», «Анюты» звучали уже и как невысказанное осуждение не названных «Трех сестер» или «Вишневого сада». Половина созданного Чеховым (а по принятым за пределами России меркам, и все три четверти) оказывается Солженицыным не признанным. Почему?
Можно понять разочарование людей театра, можно вспомнить, что это случай не первый. И Лев Толстой, и Бунин, и Маяковский, видевшие в Чехове-прозаике «несравненного художника»[439], «одного из династии Королей Слова»[440], драматургию его не принимали. Но нет, параллель здесь не полная – те ведь объясняли причину своего отношения: «Шекспир скверно писал пьесы, а вы еще хуже»[441], и «вишневых садов таких не бывает»[442], и «психоложество»[443] современному театру противопоказано… Тут же полемика идет по умолчанию.
Из замечаний об отдельных рассказах видно, что Солженицын не приемлет то, что в общем мнении закрепилось за Чеховым и чаще всего ставится ему в заслугу. Он совсем не принимает (в речи – с оговоркой, что ценит менее другого) Чехова как изобразителя и выразителя русской интеллигенции.
Чехов и интеллигенция, интеллигенция у Чехова – тема, действительно, непростая.
Академик Ю. С. Степанов в своем новейшем словаре констант русской культуры пишет о Чехове как об эталоне русского интеллигента, выразителе сути русской интеллигенции.[444] Но это лишь одна сторона. Мало кто, как Чехов, столь последовательно и убежденно говорил горькие, порой презрительные слова об «измошенничавшемся душевно русском интеллигенте», о слабостях и пороках русской интеллигенции своего времени.
Солженицын видит эту тему по-особому. Во-первых, он считает, что лучшие произведения Чехова не об интеллигенции, а те, которые он называет «простонародными». (О рассказе «Тоска» пишет: «вот тебе и «интеллигентский» писатель: верный взгляд снизу на всех этих петербургских» – 162. То есть: не там вы ищете настоящего Чехова.) А, во-вторых, в произведениях собственно про интеллигенцию, хотя, «конечно, тут многое схвачено из гибельных черт нашей тогдашней интеллигенции», – но в них – «неразборное «чеховское» нытье»; повести «из интеллигентской жизни» «довольно рыхлые, с некрепкой композицией» (163, 178). И снова: «дежурное нытье, переходящее из рассказа в рассказ, насквозь через десятки их» (179).
И тут не знаешь, чему поражаться: так не замечать черту, дистанцию, отделяющую автора от героев, хоть «ноющих», хоть «не ноющих», не оценить сильных, крепких повествований о слабых людях! Так третировать можно лишь действительно то, что чуждо самому тебе как художнику.
Заметки Солженицына о Чехове уже вызвали неодобрительный отклик. А. М. Турков в «Чеховском вестнике» пишет о прокурорском тоне Солженицына, напомнившем ему о самых суровых и несправедливых нападках на Чехова что при жизни, что в советскую эпоху.[445] Думается, тон, взятый Солженицыным в суждениях об этой теме у Чехова, не случаен, хотя и здесь он продолжает полемику по умолчанию.
Солженицын классифицирует произведения Чехова по темам: «на церковную тему», «на еврейскую тему», «на каторжную», «из интеллигентской жизни». На первый взгляд, такой расклад по темам говорит о консерватизме литературных суждений. Но на самом деле Солженицын выделяет в потоке чеховских тем то, что до сих пор не решено ни нашей литературой, ни нашей историей, что болит и в сегодняшней жизни. И он видит, как многое коренное Чеховым предугадано, верно указано в той или иной проблеме «в ее современном положении».
Вот о разговорах пастухов в рассказе «Счастье»: «Это – пугачевская глубина сохранилась и к концу века, вот она скоро вспыхнет. Подметил, учуял, может быть и не придав большого значения» (168). Соломон в «Степи» «пока– не революционер. Но сила ненависти в нем – это крупно и дальне движущая пружина. Из таких-то следующих Соломонов – успешно восстанут «кожаные куртки» военного коммунизма и 20-х годов» (171). «Палата № 6» – как пророчество о будущих «советских психушках» (174). И т. д.
Но тут же, рядом с признанием исторической зоркости, – целый ряд упреков Чехову. И упреки эти заметно повторяют стандартный набор обвинений, выдвигаемых против русской литературы и Чехова в частности.
Первый упрек – в излишнем критицизме. О «Палате № 6»: «Весь вокруг провинциальный город – как слитное рыло. Так это опять – обличительное искажение? Выписывание уродств, начатое Гоголем, – и катилось до Горького, впрягался и Бунин, вот и Чехов. <…> А ведь это – тогдашнее социальное поветрие» (174). О «Скрипке Ротшильда»: «Этим рассказом Чехов продолжает втекать во все то же заунывное и давно не новое «разоблачительство русской жизни"» (174).
И т. д. – вот так обвиняли русскую литературу в грехе критицизма и разоблачительства и Розанов, и Бунин – хотя сами же не могли не признавать (в других местах) неизбежности и справедливости этого критицизма. Вот и Солженицын в этих заметках признает меткость многого, о чем писал Чехов в «Мужиках»: «Сколько этой безголовости было, царь за царем» (176). Кстати, удивительно, как в своем разборе «Мужиков», оцениваемых им критически – как до него и Л. Толстым, и Есениным, – Солженицын не замечает, что в конце фразы пристава, отнимающего у мужиков за недоимки последний самовар: «Пошел вон.» – стоит не восклицательный знак, а точка! Вот где действительно можно бы заметить: «ну, мастерство!».