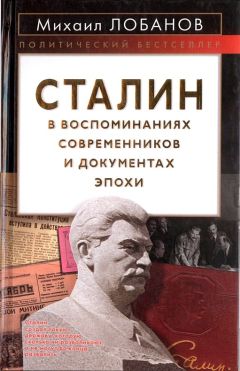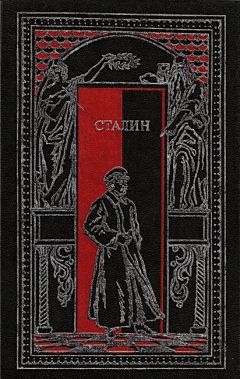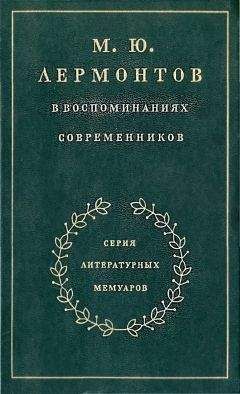Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников
Ждем Эйзенштейна. Наконец он входит чуть запыхавшись. Мы встречаем его бурными аплодисментами. Мы аплодировали долго — пока не заболели ладош рук. Он стоял перед нами чуть смущенный я чуть улыбался. Потом сел за стол, взял стопу фотографий, взвесил ее на руке и нараспев сказал:
— Начнем, пожалуй… С первой буквы алфавита — Альцев.
Подходил к столу Альцев. С благодарностью тряс руку учителю. Потом подходили другие. И каждому Серией Михайлович писал на портрете что-то такое — отличное от другого, отвечающее только этому студенту.
Мне он напитал: «Дорогому Левицкому — любителю музыки — в память лет учебы во ВГИКе. Эйзенштейн».
В июле 1936 года я защищал диплом по квалификации режиссера художественного фильма. Сергей Михайлович сидел за столом государственной экзаменационной комиссии в качестве ее члена. Поскольку из группы Эйзенштейна я защищал первым, волновался, как мне казалось, и мой учитель. Он иногда посматривал на меня и ободряюще улыбался глазами.
Стены комнаты, где проходила защита дипломных проектов, увешаны моими эскизами декораций и костюмов, графическими портретами действующих лиц (как мы их себе представляли) и раскадровками отдельных эпизодов сценария. В разработке дипломных проектов постановок мы выступали не только как режиссеры, но и как художники. Сергей Михайлович настоятельно требовал от нас умения рисовать. По его предложению был введен у нас курс рисунка. Он считал, что если режиссер не может мыслить при помощи рисунка, не умеет выражать свои режиссерские мысли графически, он много теряет в своей профессии.
Перед государственной комиссией я защищал проект постановки полнометражного художественного фильма о Бетховене (я был и автором сценария). Говорил я, помню, долго. Кажется, исчерпал даже лимит времени. Но, рассказывая о поведении актера в роли Бетховена, я опустил одну весьма существенную деталь: не сказал, как должен вести себя актер в образе Бетховена, когда он, будучи уже совершенно глухим, дирижирует своей Девятой симфонией.
Эйзенштейн спросил:
— Расскажите поподробнее о поведении глухого композитора. Как он дирижирует?
Я задумался, но потом сообразил и сказал, что глухой композитор дирижирует главным образом глазами. Глаза и оркестр. Глаза и смычок. Глаза композитора и глаза исполнителя. Я хотел доказать, что вся мизансцена в этом случае отроится на движении глаз той и другой стороны. Очевидно, мой ответ показался Эйзенштейну не совсем полным, и он задает мне другой вопрос:
— Какую литературу о поведении глухих и глухонемых вы читали? На какие признаки она указывает?
Я снова задумался и — не ответил. Сказал, что не читал специальной литературы, что для меня было достаточно сведений по этому вопросу, изложенных в воспоминаниях современников Бетховена, Вот тут я и промахнулся.
После защиты мне кто-то сказал, что этот мой ответ не удовлетворил Сергея Михайловича. Он даже высказал свою досаду: мол, не научил главному. А главное в методике его обучения состояло в том, чтобы воспитать в молодых режиссерах чувство ответственности к своей профессии, чувство серьезного подхода к изучению любого вопроса, связанного с данной темой. Он требовал от нас всестороннего и глубокого изучения всех аспектов задания, над которым мы работаем.
… Как-то попал к нему на съемку эпизода «Ледовое побоище». Большая натурная площадка «Мосфильма» густо усыпана мелом и нафталином. Солнце печет неимоверно. В воздухе над площадкой стоит пыль, как в морозный день. Большая массовка «псов-рыцарей» расставляется по кадру. Эйзенштейн лежит на животе у аппарата и смотрит в окуляр. Его маленькие ножки, развернутые кронциркулем, иногда кокетливо поднимались подошвами ботинок кверху. Слышался его неторопливый спокойный волос:
— Задняя группа, пожалуйста, на полшага влево. Нет, много… Так, хорошо!
— Левый фланг второй шеренги четверть шага назад. Так! Двое со штандартами… да‑да, вы! — поднимитесь на десять сантиметров. Ноги коротки? Остряки!
Казалось, что каждого в этой огромной толпе Эйзенштейн передвигал по нескольку раз, находя наиболее подходящее место. Так он выстраивал композицию каждого кадра. Адски тяжелая работа, да еще под палящим солнцем.
На нем пробковый шлем, который он привез из Мексики. Серая куртка и такие же серые широкие штаны, из которых торчали маленькие ножки, развернутые на земле у съемочной камеры.
— Товарищ в шлеме с рогами, чуть нагните голову.
— Первая шеренга, опустите немного пики. Так. Приготовились к съемке!
… Был какой-то праздник. Студенты и преподаватели ВГИКа собрались на фабрике-кухне № 1 на Ленинградском шоссе в помещении столовой. Выпили, закусили. По тем временам — более чем скромно. Завели музыку. Стали танцевать. Сразу же включился в танец Сергей Михайлович и, к нашему удивлению, стал отплясывать быстрый фокстрот. Это было очень комичное зрелище. Мы никогда не видели Эйзенштейна танцующим. Он прыгай, как молодой козленок, выделывал ногами какие-то замысловатые фигуры, о которых мы не имели никакого представления, хотя нас обучала западным танцам одна из балерин Большого театра. Среди нас был директор ВГИКа Николай Алексеевич Лебедев. Он, так же как и мы, смотрел на Эйзенштейна удивленными глазами, а потом сказал мне:
— Вот его суть — безудержный темперамент.
После танца Сергей Михайлович сразу же уехал домой — стало плохо с сердцем.
Ростислав Юренев
Я был светильником
Началось, как часто бывает, с неприятностей.
Назначенный в редколлегию институтской стенгазеты от сценарного факультета, я одобрил к опубликованию рисунок представителя режиссеров Вали Кадочникова. На рисунке лобастая, в лучах шевелюры голова Эйзенштейна как солнце всходила над ВГИКом. На следующий день нас вызвали к декану и ругали за подхалимаж перед Эйзенштейном. Его я еще ни разу не видел, но Кадочникова поддержал: рисунок хороший, выражает не подхалимаж, а восхищение, любовь. Кадочникова из редколлегии вывели. Меня оставили, но в подозрении. А дружба между нами завязалась.
Сценаристами во ВГИКе руководил неистовый и громогласый Туркин. Однажды он заявил, что мы должны сочинять коротенькие сценарные этюды, которые будут ставить эйзенщенки, студенты режиссерского факультета. Я сочинил два. Их снимали Олег Павленко и Гриша Липшиц. Помню, что пленки у них было метров по двести. О дублях и не помышляли.
Все эйзенщенки были не только влюблены в своего учителя, но как-то огорошены, зачумлены, переполнены им. Он отобрал свою мастерскую с трех курсов. Разного возраста, различных уровней культуры, способностей, наклонностей и судеб, студенты-режиссеры только и думали, что о лекциях, заданиях, остротах и фильмах Эйзенштейна. На его занятия стремились студенты других факультетов, да и некоторые преподаватели.