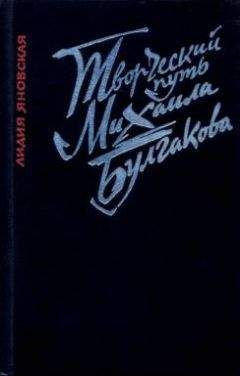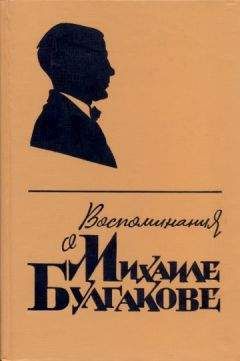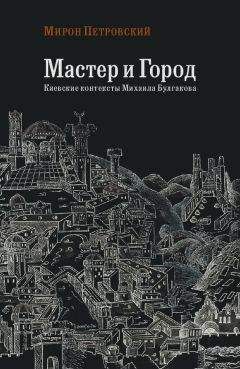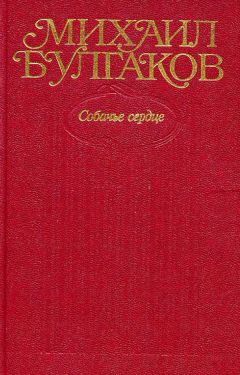Лидия Яновская - Записки о Михаиле Булгакове
Почему-то очень страшно вывести на бумаге: «больше тысячи искажений»... Говорю о «сотнях» поправок, о том, что их семьсот или восемьсот... И все-таки добавляю: «если не больше...» Конечно, знаю, что это не продуманная правка, а случайные и небрежные искажения. Мне даже известен источник этих искажений. Но говорить об этом ох как не хочется...
Письмо уходит в последних числах сентября 1988 года. В самый короткий срок — в начале октября — приходит ответ. Напрасно я так волновалась, откладывая это трудное объяснение. Для моего корреспондента это и не удар вовсе. Он отвечает с трогательной прямотой, даже ласково, как разговаривают с больными:
«Думаю, что когда Вы говорите о едва ли не 800 разночтениях и купюрах, Вы имеете в виду другую редакцию булгаковского текста... Какую редакцию предпочесть и как печатать "Собачье сердце" в академическом издании — это вопрос специальной текстологической работы с первоисточниками. Журнал не мог себе позволить эту роскошь и, думаю, поступил правильно, дав для первоначального знакомства нашего читателя с повестью тот текст, который уже известен всему миру».
Владимир Лакшин — блестящий литературный критик. У него ученые степени и высокий литературный авторитет. Но... он не текстолог. Боже мой, до какой степени не текстолог!
Святыню — собственный текст покойного писателя Михаила Булгакова — он позволяет себе считать всего лишь «другой редакцией». Он полагает, что подлинный Булгаков может подождать до каких-то отвлеченных, бог знает когда будущих, «академических» изданий. Что пока «нашему читателю» достаточно случайного, бродячего текста (простите за профессиональный вульгаризм — текста «с помойки»), правда украшенного титулом иностранного издательства. И что это даже «правильно»...
От офиса «Знамени» в Москве до отдела рукописей Библиотеки имени Ленина — приятная пешая прогулка. У Владимира Лакшина — открытый допуск в отдел рукописей. В период публикации «Собачьего сердца» он снимает здесь телевизионный фильм о Булгакове, фотографирует рукописи и вообще все, что считает нужным показать нам с телеэкрана.
Все три уцелевшие редакции «Собачьего сердца» (может быть, их было больше, но уцелело три) хранятся здесь, в отделе рукописей. Это машинопись с густой, волнующе собственноручной авторской правкой. Но Лакшину даже в голову не приходит заглянуть в них. Он не текстолог. Он несколько свысока относится к «вопросу специальной текстологической работы с первоисточниками». Журнал не может позволить себе «эту роскошь».
Единственно, что позволяет себе журнал, как я узнаю из того же письма, датированного октябрем 1988 года: «Просмотревшая (не по моей инициативе) этот текст М. О. Чудакова внесла в него 5 или 6 мелких поправок, вследствие чего настояла на том, чтобы публикация шла под ее именем». Поправки, не заглядывая в оригинал... К одной тысяче искажений, содеянных безответственными и небрежными зарубежными копировальщиками, — еще несколько, пять или шесть, сущий пустяк, конечно...
А может быть, Владимир Лакшин прав?
Думаю, не половина, догадываюсь, три четверти читатели скажут: конечно, прав!
Ища сочувствия, тогда же, по свежим следам, я рассказываю эту историю милой молодой женщине: в огромном украинском городе, в том мире, где я прожила всю жизнь, она прекрасный библиотекарь; во всех специальностях своей многочисленной паствы она ориентируется идеально, и глаза ее сияют навстречу читателям, а руки, быстро и ласково касаясь корешков, легко разыскивают нужные книги.
Не дослушав меня, она смеется: ну стоит ли принимать к сердцу такую чепуху? Какая разница! Повесть «Собачье сердце» прекрасна, и это же замечательно, что Булгакова не может испортить даже тысяча искажений!..
В том же украинском городе, где населения больше, чем в Тель-Авиве и Иерусалиме вместе, меня приглашают выступить в маленьком клубе «книголюбов». Есть такое новое русское слово — «книголюб», заменившее старое «библиофил». Другая милая дама, моя преданная читательница, все два часа моего выступления с восторженными глазами просидевшая в первом ряду, говорит мне потом, и голос ее огорченно вздрагивает: «Ну что вы все о текстах да о текстах... Они же могли подумать, что вы всего-навсего текстолог...»
Что же это за профессия такая — странная, занудливая, даже как бы никому не нужная — текстолог? Может быть, она сродни экологии?
Можно ли плевать в колодец?
Ах да, в колодец нельзя.
А сбрасывать отходы в реку? В маленькую нельзя — погибнет. А в море? Сколько развалившихся танкеров с нефтью выдержит море?
Может быть, он сумасшедший, этот эколог с отчаянным лицом и мертвой птицей в руках на черном от нефти берегу, которого мы видим по телевизору... Может быть, она просто зануда — женщина, вся забрызганная грязью, отмывающая от мазута, в тазу, чужую, жалкую, вольную птицу... Разве мало еще берегов и прекрасных, живых птиц у моря?
Сколько искажений может выдержать большая проза?
Если очень большая, такая, как проза Михаила Булгакова, то очень много. Способность прозы — и драматургии — Булгакова к самоочищению огромна. Не колодец, не река — море.
(Думаю, было бы очень перспективно исследование — попробовать понять, как создается эта неуничтожимость булгаковского текста, когда, весь исполосованный повреждениями и рубцами, он все равно жив и прекрасен. Что здесь главное — гибкое сцепление слов, когда при выпадении одного, двух, нескольких нагрузку берут на себя оставшиеся? чудо ритма и мелодии? сила образов? богатство мысли? Или все вместе?)
И все-таки... Воздух — без дыма заводских труб. Овощи — без нитратов. Река, в которой можно купаться без опасений... Сочинения классика в их авторском, в их первозданном очаровании, без искажений...
Откройте роман «Белая гвардия» на первой странице. В большинстве изданий вы прочтете: «Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна...»
А у Булгакова — не «вишневые». У Булгакова — «вишенные»: «Когда отпевали мать, был май, вишенные деревья и акации...»
«Вишенные»... Живая, поющая птица...
Несколькими страницами дальше — все еще самое начало романа: «Старший Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе — в кресле с ногами».
Хорошо?.. Но почему в «новых» туфлях? Специально покупал? В такие трудные дни? Да еще «мягких новых»... «Мягкие» — скорее старые...
А у Булгакова не в «новых». У Булгакова — в «ночных» туфлях: «...во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких ночных туфлях...»