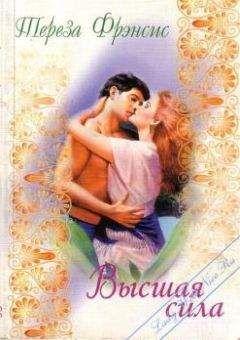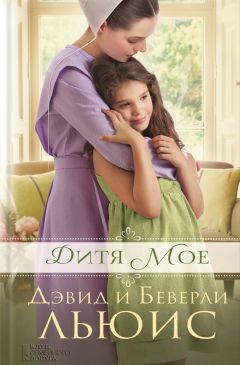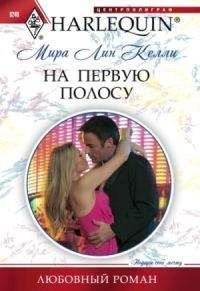Борис Савинков - Воспоминания террориста
Карпович был резок и прям. Чрезвычайно правдолюбивый, он и в других не переносил ни малейшей неискренности. Это было основной чертой его характера. Другой чертой была его отвага. Он напоминал тех средневековых рыцарей, о которых говорится в сказках: чем опаснее было предприятие, тем охотнее он брался за него. По своим взглядам, он был в партийной оппозиции. Он признавал только террор и с оттенком пренебрежения относился ко всякой другой партийной работе. Он с чисто женскою нежностью привязался к Азефу и, быть может, более, чем кто-либо другой, видел в нем прирожденного вождя центрального террора.
Мы выехали с ним вместе в Глазго и поселились там в одной квартире. За полтора месяца, которые мы с ним прожили вместе, я заметил, что цельность его убеждений была только внешней. За резкими отзывами и решительными мнениями скрывались колебания, – признак зрелого ума и совестливой души. Его волновали вопросы о моральном оправдании насилия, и в его крайних, часто жестоких выводах мне чудилось отвращение к крови и отчаяние, что революция неизбежно должна быть кровавой. Он говорил:
– Нас вешают, – мы должны вешать. С чистыми руками, в перчатках, нельзя делать террора. Пусть погибнут тысячи и десятки тысяч – необходимо добиться победы. Крестьяне жгут усадьбы – пусть жгут. Людям есть нечего, они делают экспроприации – пусть делают. Теперь не время сентиментальничать, – на войне, как на войне.
Таковы были его слова. Но он сам не экспроприировал и не жег усадеб. И я не знаю, много ли встречал в моей жизни людей, которые, за внешней резкостью, хранили бы такое нежное и любящее сердце, как Карпович. И это было тем более хорошо, что о любви к людям он отзывался с презрением, а о ненависти говорил, как о законном чувстве. Противоречие между словом и делом у него было всегда, и решительно – в пользу дела. Даже те, с кем он не сходился ни во взглядах, ни в симпатиях, ни в образе жизни, относились к нему с любовью и уважением.
Костенко, молодой офицер, увлеченный идеей восстания Балтийского флота, познакомил нас с Варшамовым и матросами. Из серой толпы команды выделялись три человека: трюмный квартирмейстер Котов, строевой матрос Поваренков и машинист Герасим Авдеев. Они все трое входили в комитет корабельной организации. С ними мы и решили познакомиться ближе.
Котов был пропагандист по призванию. Он осенью кончал свою службу и его мечтой было, вернувшись в деревню, учить крестьян революционному социализму. В партийной программе его привлекало решение аграрного вопроса, вопросы террора его интересовали мало. Быть может, в этом сказывалось влияние социал-демократической пропаганды и умолчание нашими пропагандистами о необходимости цареубийства. Этот матрос, чистый тип учителя-подвижника, оставлял светлое и яркое впечатление, но мы не решились с ним даже заговорить о цели нашего приезда: в его отказе не могло быть сомнения.
Поваренков был маленький, коренастый хохол. Он не был так начитан, как Котов, аграрным вопросом интересовался так же мало, как и террором. Он верил только в восстание флота, захват Кронштадта, бомбардировку Петергофа. Он имел большое влияние на команду: именно он являлся организатором на корабле, он создавал матросские революционные кружки и он спаивал их в одно целое. Практичный и скрытный, он был незаменим в подпольной организации.
Герасим Авдеев был высокого роста с загорелой шеей матрос. У него был большой революционный темперамент, – он был из тех людей, которые в массовых движениях идут впереди массы, являются ее естественными вождями в решительную минуту. Смелый, энергичный, чуждый по природе конспирации и учительства, он один из всех матросов показался нам способным увлечься идеей террора. Костенко передавал нам, что он не раз говорил ему о необходимости цареубийства.
Когда я в первый раз увидел Авдеева, я сказал ему:
– Я слышал, вы хотите участвовать в терроре?
Он побледнел:
– Кто вам сказал?
– Порфирий (Костенко).
Авдеев опустил глаза. Он сказал громко:
– Нет. Не могу. Не готов.
На следующий день он пришел опять. Он сказал:
– Я думал всю ночь. Я согласен. Говорите, что нужно делать?
Я сказал:
– Вы знаете, речь идет о царе.
Он ответил:
– Тем лучше, что о царе. Что нужно делать?
План состоял в следующем: «Рюрик» уходил в конце лета в Россию, и осенью, в Кронштадте должен был состояться смотр в присутствии царя. Мы хотели поместить на корабле кого-нибудь из товарищей: Карповича, меня или кого-либо из членов боевой организации. Конечно, пребывание на крейсере должно было быть тайным. Но чтобы сесть на корабль и жить на нем тайно, необходима была помощь, по крайней мере, одного из матросов. Таким матросом мог быть Авдеев. Предстояло выяснить, можно ли скрываться на корабле, и где удобнее сесть на борт, – в Глазго или в Кронштадте.
Я рассказал Авдееву этот план. Он выслушал его молча. Потом сказал:
– На корабле можно скрываться.
– Где?
– Я найду место.
Несколько дней Костенко и Авдеев искали такое место. Наконец, оно было найдено. В румпельном отделении, в отсеке, за головой руля, было несколько темных и узких отверстий. В этих отверстиях с трудом мог поместиться человек. Сидя на корточках и полулежа, там можно было просидеть несколько дней. Если само помещение было неудобно, зато выход из него представлял все удобства: прямо из румпельного отделения через палубы шел вентилятор. Внутри этого вентилятора была лестница. Выйдя из отсека и поднявшись с бомбой по этой лестнице, можно было взорвать адмиральское помещение, мимо которого шел вентилятор. Можно было также взорвать и верхнюю палубу, именно ту, где и происходит смотр: гриб вентилятора выходил у правой кормовой башни. Теперь, когда место было найдено, нужно было решить другой вопрос, – задачу посадки на корабль.
Авдеев следил за нашими изысканиями и, видимо, переживал тяжелые минуты. Он видел, с какими затруднениями сопряжено цареубийство, если непосредственным исполнителем его является человек нелегальный, не имеющий случая встретиться с царем лицом к лицу.
Он понимал также, что все эти затруднения падают, если на цареубийство решится человек, по роду своей службы встречающийся с царем. Перед ним невольно вставал вопрос, не обязан ли он предложить себя в исполнители? Неподготовленный к такого рода переживаниям, он не спал, худел и бледнел. Было видно, что он глубоко мучается своим бессилием.
Мы встречались с ним или у нас на квартире, или на лугу, на берегу реки Клайд, когда команда вечером отпускалась на прогулку. Он расспрашивал меня с волнением о Спиридоновой, Каляеве, Сазонове, Гершуни, Конопляниковой. Особенно его поражало, что женщины самоотверженно участвуют в терроре. Говоря с Костенко о цареубийстве, он не думал, что его слова могут повлечь попытку покушения, и теперь перед ним во всей своей простоте становился вопрос: пожертвовать собой во имя революции.