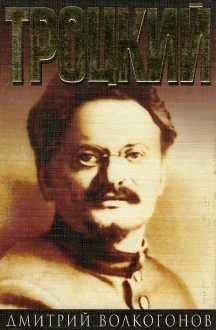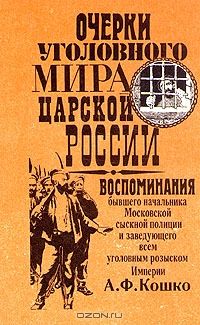Дмитрий Волкогонов - Троцкий. Книга 2
Предопределенность оценок, выводов Троцкого нередко вызывает сильный протест беспристрастного читателя. Политическая заданность, классовая ограниченность, абсолютная уверенность в своей исторической правоте априори — самая слабая сторона этого выдающегося исторического произведения. Придерживаясь памятных вех, остроумно и оригинально описывая калейдоскоп событий 1917 года, автор настойчиво, многократно, однозначно проводит чрезвычайно сомнительную мысль: Февральская революция была обречена. "К исходу четвертого месяца, — утверждает Троцкий, — Февральская революция уже политически исчерпала себя"[86].
Революционер-историк, находясь в тисках своих взглядов и мировоззрения, не хочет видеть: Февраль лишь приоткрыл дверь в храм демократии. Он не хочет понять: Октябрьскую революцию сотворили не большевики, а прежде всего империалистическая война, слабая власть, глубочайший кризис общества, возмущение "низов". Большевики, ведомые Лениным и Троцким, оказались наиболее предприимчивой и радикально настроенной силой, которая использовала эти обстоятельства. Но Троцкий не хочет ни понять, ни признать, что в самом акте "перескакивания" через демократический этап коренилась величайшая опасность — преклонение перед насилием. Революция, а не реформы, диктатура, а не демократия, безапелляционная историческая правота, а не сомнение — вот что характеризовало кредо большевиков, которые вскоре без сожаления расстались и со своим политическим союзником — левыми эсерами.
Троцкий видел в насилии глубинную пружину революции. Раз эта пружина приводится в действие пролетариатом, она делает справедливое дело. Таков бесхитростный сюжет исторического оправдания революции.
Когда Троцкий ответил Каутскому по поводу его брошюры о терроризме, Бернард Шоу тоже счел нужным высказаться по этому поводу. Статью великого английского писателя "Троцкий — король памфлетистов" перевели и представили для ознакомления Председателю Реввоенсовета в конце января 1922 года. Троцкий подчеркнул много мест в статье, но не решился публично "воевать" с Бернардом Шоу.
"Троцкий, опьяненный своим успехом, подобного которому никогда не выпадало на долю Маркса, в борьбе с Колчаком, Деникиным и Врангелем, которых он раздавил, как три гнилых ореха, преуспел в деле наведения такого страха на Европу, в каком ее не держал никто…" Далее Шоу продолжает: "Романтическая традиция истории требует, чтобы наиболее эффектным моментом революции было цареубийство. Почему Советская власть воскресила эту традицию? Почему русские революционеры не только вернулись к устарелой традиции цареубийства, но просто уничтожили царскую семью без суда, в прямое нарушение прав, принадлежащих членам этой семьи как гражданам республики?..
Троцкий должен был ответить на этот вопрос… Как бы там ни было, когда время стрельбы миновало, Троцкий нашел, что с победой затруднения для него только начинаются. Он мог перестрелять весь человеческий род, кроме Коммунистической партии и сторонников ее правления, но задача спасения России не становилась от этого легче…"[87]
Перевод статьи Бернарда Шоу так и остался лежать в бумагах Троцкого. И как ни копались в них сотрудники НКВД, ее нельзя было использовать для морального уничтожения Троцкого. В ней — приговор марксистской исторической концепции, основанной на догматической вере в возможность достижения "царства справедливости" в союзе с безграничным насилием. Самое уязвимое место Троцкого как теоретика, историка и философа заключается в том, что он всю жизнь верил ложной идее диктатуры одного класса. Все его исторические сочинения несут печать верности этим каноническим соображениям.
Троцкий был способен всего несколькими энергичными мазками реставрировать не только внешнюю картину революции, но и ее внутренние механизмы. "То, что придало перевороту характер короткого удара, с минимальным количеством жертв… — писал он, — это сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и борьбы крестьянского гарнизона…" Троцкий резюмирует: "Руководила переворотом партия; главной движущей силой был пролетариат; вооруженные рабочие отряды являлись кулаком восстания; но решал исход борьбы тяжеловесный крестьянский гарнизон"[88].
Автор книги, стремясь быть точным перед историей, пишет: "октябрьский переворот" занял лишь сутки, и в нем участвовало "вряд ли более 25–30 тысяч"[89]. Как это не вяжется с последующими утверждениями официальной историографии о "народной революции"!
Троцкий, хорошо знакомый с западными демократиями, отдает им должное. "По сравнению с монархией и другими наследиями антропофагии и пещерной дикости, — пишет он, — демократия представляет, конечно, большое завоевание". Как говорится, слава богу, признал очевидное. Но здесь же многозначительно добавляет: демократия "оставляет нетронутой слепую игру сил в социальных взаимоотношениях людей". А посему на эту "область бессознательного впервые поднял руку октябрьский переворот"[90]. Вначале разрушить, затем созидать. В этой ошибочной формуле кроются истоки конечной исторической неудачи большевистского социалистического эксперимента. Социальная методология такова, что успех в преобразованиях может прийти тогда, когда разрушение старых структур идет одновременно с созданием новых. Октябрь же был апофеозом сметения, ликвидации старого. Меня могут сразу же уличить в замалчивании соответствующих высказываний Ленина, основоположников научного социализма о недопустимости "зряшного отрицания". Я же сейчас говорю о социальной практике, которая была не только бесчеловечно радикальна, но и предельно жестока. Вначале все превратили в пепел, а затем, на основе умозрительных выводов вождей, стали конструировать казарменный социализм.
Задумывался ли над этим Троцкий? Да, бесспорно. Отвечая на вопрос: "Оправдывают ли вообще последствия революции вызываемые ею жертвы?" — он говорит: "Вопрос телеологичен и потому бесплоден". Еще ниже он добавляет: "Если дворянская культура внесла в мировой обиход такие варваризмы, как царь, погром и нагайка, то Октябрь интернационализировал такие слова, как большевик, совет и пятилетка. Это одно оправдывает пролетарскую революцию, если вообще считать, что она нуждается в оправдании"[91]. Но разве дворянская культура сводится к "царю" и "нагайке"? Разрушительный характер революции по Троцкому — это "праздник пролетариата". Но этот "праздник" патологически затянулся. Приведенные выше слова были написаны Троцким в 1932 году, и он не мог еще знать, что спустя годы с Октябрем, а точнее, с его детищем будут ассоциироваться и другие слова: ГУЛАГ, тотальная бюрократия, примитивный догматизм.