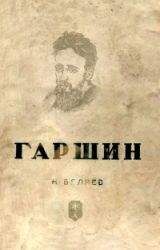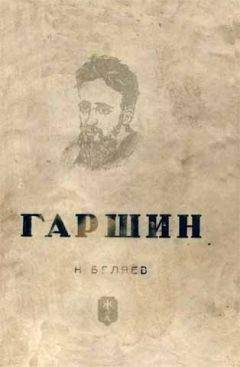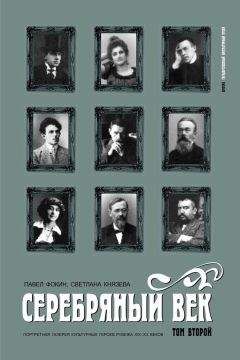Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
ЦИБУЛЬСКИЙ (Цыбульский) Николай Карлович
«граф О’Контрэр»;1879 – после 1919Композитор. Вместе с Б. Прониным распорядитель артистического кафе «Бродячая собака». Автор оперы «Голос жизни или скала смерти».
«Цибульский жил где-то на Васильевском острове, в какой-то малюсенькой, поражающей убогостью комнатушке, всю меблировку которой составляли железная кровать без матраца, ломанный, грязный деревянный табурет и такой же поломанный грязный деревянный стол; ко всему еще – жена с вечно плачущим и страдающим от холода и голода ребенком… Но в этой же комнатушке было несколько листов нотной бумаги, на которых руками Цибульского запечатлены были замечательные по своей красоте и композиции, причудливые и фантастические вальсы.
Не думайте, что под эти вальсы можно было с приятностью кружиться в опьяняющем легкомыслии; нет, они были полны такой неизбывной и грустной тоски, что их нельзя было слушать без слез. Когда нелепый Цибульский, вечно нетрезвый, очкастый, огромный и высокий, грязный и ободранный, перебирал клавиши своими тоже грязными руками, самые утонченные, красивые и избалованные женщины оказывались у его ног. В одинаковой степени благоговели перед Цибульским и все другие; сам Илья Сац с большим восторгом слушал его. Но вальсы Цибульского почти потерялись во времени, ибо Цибульский был бродяга с головы до ног, ничего не хотел и не умел сохранять и ничего не старался извлекать из своего несомненного большого дарования. С утра до поздней ночи среди ли друзей в богеме, или от поздней ночи до раннего утра в каких-то далеких, заброшенных чайных или трактирах по окраинам – он оставался самим собою. Цибульский умел быть философом; он умел спокойно проживать свой вечный, поистине замечательный рубль. Какая бы ни была компания (кстати – во всякой компании Цибульский держался трезвее, спокойнее и выдержаннее всех), после того когда уже все уставали и торопились по домам, он один никуда не спешил и добродушно, методически, постоянно напоминал о рубле, т. е. просил его у кого-нибудь взаймы, разумеется, никогда его не отдавая; во всякой компании находился кто-нибудь, кто охотно давал ему этот рубль, и тогда Цибульский, принимая его как должное, с философским спокойствием, один и одинокий, уходил в свои загадочные пространства.
О Цибульском рассказывали, что он бросал когда-то какие-то бомбы, был непримиримым бунтарем и анархистом, но чем бы он ни был, все видели в нем благороднейшего, прекраснейшего человека, для всех он был неутомимым энтузиастом и совершенно исключительным музыкантом, к сожалению, в силу своей странной натуры не оставившим после себя никакого следа, не закрепившим тех импровизаций, которыми он увлекал всех без исключения» (А. Мгебров. Жизнь в театре).
«…Комната у портного на Конюшенной. Два оплывающие огарка. Высокий потолок расплывается в сумраке. Рояль раскрыт.
Облезлых стен, пятен сырости, окурков и пустых бутылок – не видно. Комната кажется пустой и торжественной. Пламя огарков колеблется.
В этом колеблющемся свете не видно и то, что так бросается в глаза в „мертвом, беспощадном свете дня“ в лице Ц.: опухлость бессонных ночей, давно не бритые щеки, едкая, безнадежная „усмешечка“ идущего на дно человека. Оно помолодело, это лицо, и изменилось. Глаза смотрят зорко и пристально в растрепанную нотную рукопись…
Ц. берет два-три аккорда, потом смахивает ноты с пюпитра.
– К черту! Я буду играть так.
„Так“ – значит импровизировать. Разные бывают импровизации, но то, что делает Ц., – ни на что не похоже.
Сначала – „полосканье зубов“, как он сам называет свою прелюдию. Нечто вроде гамм, разыгрываемых усердной ученицей, только что-то неладное в этих гаммах, какая-то червоточина. Понемногу, незаметно отдельные тона сливаются в невнятный, ровный, однообразный шум. Минута, три, пять – шум нарастает, тяжелеет, превращается в грохот. – Вот так импровизация! – Какой-то стук тысячи деревянных ложек по барабану. Какая же это музыка?..
Тс… Не прерывайте и вслушайтесь. Слышите? Еще нет? А… слышите теперь?
…Среди тысячи деревянных ложек – есть одна серебряная. И ударяет она по тонкому звенящему стеклу…
Слышите?
Ее едва слышно, она, скорее, чувствуется, чем слышна. Но она есть, и ее тонкий, легкий звон проникает, осмысливает, перерождает этот деревянный гул. И гул уже не деревянный – он глохнет, отступает, слабеет…
Не отрывая пальцев от клавиш, Ц. оборачивается к слушателям. Его лицо раскраснелось, глаза шалые. Он перекрикивает музыку:
– Людоеды отступают, щелкая зубами. Им не удалось сожрать прекрасного англичанина!
Не обращайте внимания на это дикое „пояснение“. Слушайте, слушайте…
…Шум исчез. Чистая, удивительная, ни на что не похожая мелодия – торжествует победу. Лучше закрыть глаза. Закрыть глаза и слушать это торжество звуков. Нет больше ни Конюшенной, ни оплывающих огарков, ни залитого пивом рояля. Наступила минута, когда:
Все исчезает, – остается
Пространство, звезды и певец.
Слушайте! Сейчас все оборвется, крышка рояля хлопнет, и хриплый голос пробасит:
– Ну, довольно ерунды!
– Какую прелесть вы играли, Николай Карлович. Почему вы не запишете этого?
– Записать? – Деланно глуповатая усмешка. – Записать? Пробовал-с. И неоднократно. Не поддается записи… Да к чему. И так слышно. „Имеющие уши да слышат“, – затягивает Ц., как дьякон. Потом жеманно раскланивается: – Позвольте узнать, виконт, что вам приятнее – сидеть в конуре старого пьяницы или отправиться в небезызвестный этаблисман Эдельвейс?» (Г. Иванов. Петербургские зимы).
«5 января 1917. …Цыбульский просидел у нас очень долго, мы успели и пообедать, и чаю выпить, приходил и ушел Сорин, ушла Ольга, а Цыбульский все болтал, рассказывал разные сплетни, талантливо характеризуя людей, нюхал кокаин и заставил нас выпросить у Сорина последнюю бутылку красного вина, которую он и выпил почти один. Сережа [Судейкин. – Сост.] очень не любит пьяниц, и его возмущает постоянное опьяненное состояние Цыбульского. За последнее время он и кокаин нюхает, и опий курит, вообще опьяняет себя всеми возможными способами. Благодаря такому состоянию он становится очень талантливым рассказчиком и собеседником, но теряет даровитость музыканта, так как мало сочиняет и иногда даже с трудом играет; сам он говорит, что за последнее время совсем бросил работать и сочиняет только ерунду, которая, кстати сказать, очаровательна, как, например, его французская шансонетка на старинный текст с припевом: „Oh, qu'il est doux d'embrasser се qu'on aime, et d'être embrasser de même“ [франц. „O, как приятно целовать того, кого любишь, и когда тебя целует любимый“. – Сост.]; мы заставляли его играть ее несколько раз подряд, что он делал неохотно; с большей охотой он читает вслух свои стихи – его последний spleen [англ. хандра. – Сост.], – которые записаны у него на длинном блокноте. Стихи злободневные, иногда любовные. Когда он был у нас на Рождестве, он оставил нам довольно нелепое четверостишие: „Быть может, потому, что не имею друга, Мне радостно приходить в дома, где любят друг друга. Пусть на «друга» плохая рифма «друга», Я заповедаю Вам: «любите друг друга»“. Внешний вид у него все еще великолепный, несмотря на болезненную одутловатость. Грузное тело с крупной головой великого человека. Сорин хочет сделать с него рисунок, Сережа тоже. Но вряд ли Цыбульский сдержит свое слово позировать аккуратно и в трезвом виде» (В. Судейкина. Дневник).