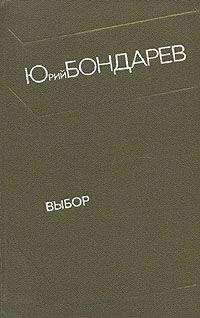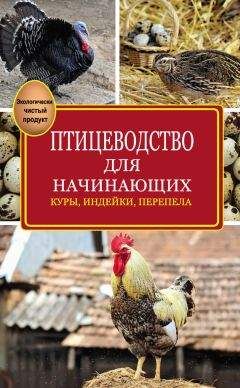Ю Бондарев - Выбор
Он почти облегченно нащупал на тумбочке таблетку димедрола и так же, с ожиданием успокоения запивая ее водой, трудно сделал глоток, затем лег на спину, чувствуя холодное онемелое пощипывание на языке, где была таблетка.
"Сейчас, сейчас будет легче..."
Спасительный сон не приходил, только властная сила потянула его назад, в недавний сырой, преддождевой день, и там, в этом преддождевом дне, наступило некоторое облегчение, когда все прощальные процедуры были закончены и первым уехал присутствовавший при погребении молчаливый представитель итальянского посольства, а четыре парня-могильщика в расстегнутых куртках, вспотевшие, быстро завершили работу, подбросив лопатами откатившиеся комья к продолговатому земляному холмику, выросшему на окраине ржавых оград подмосковного кладбища. Они начали устанавливать венки, сухо, жестко шуршащие искусственными цветами, и Васильев отвернулся, чтобы не видеть их пошлого грима. А вокруг голые березы, уже набухающие соками, стояли в сиреневом тумане, и черные грачи с толстыми клювами хозяйственно ходили, переваливаясь, по мокрой прошлогодней пашне, и везде был рассеянный свет ранней весны - теплое солнце угадывалось за тучами, хотя собирался дождь, и пахло недавно растаявшим снегом, сырым воздухом. Только левее кладбища расчищалось - и в ослепительном мартовском небе над крышами недалекой деревни летели белые облака, грузно наполненные, надутые, как паруса, влажным ветром. "Надо это запомнить, - машинально мелькнуло у Васильева, и он тут же с неприязнью к себе подумал, что навсегда отравлен привычной работой памяти, которую ежедневно тренировал всю жизнь до предела, изощряя ее. - Нет, это неисправимое безумие - я смотрю на каждого, и мне кажется, что угадываю его мысли и запоминаю выражение глаз..."
Раиса Михайловна, два дня больная сердечной слабостью, сердито отвергла всякую помощь Марии, неизвестно чем жестоко обиженная, не захотела ехать на кладбище со всеми, попросила "оказать услугу" Викторию, приехала в ее сопровождении на такси, но из машины не смогла вылезти, к ней подходили с соболезнованием поочередно. Видимо, ей не хватало сил, и в момент погребения, когда уже сбрасывали лопатами землю на крышку опущенного в коричневую щель гроба, она, не отпуская растерянную Викторию, сидела за закрытым стеклом на заднем сиденье. Там виднелось маленькое, безучастное, застывшее в гордой обиде гипсовое лицо, и клоунски нелепая черная шляпка моды тридцатых годов траурно выделялась на ее седых волосах. Она уехала, не сказав ни слова, и Виктория, повернувшись к заднему стеклу, делала всем какие-то непонятные, прощальные знаки, и брови ее изламывались, как от безмолвного плача и отчаяния. И тогда Васильев вспомнил слова, сказанные ею вчера в мастерской: "Па, прости меня за глупость, прости..."
Потом молча двинулись к машинам, оставленным на проселке за кладбищем. Лопатин открыл багажник своей потрепанной "Волги", достал полиэтиленовую канистру с дистиллированной водой, и они принялись мыть руки, измазанные липкой глиной, той горстью земли, которую каждый бросил в могилу.
- Свой срок, свой срок... Все там будем, - вздохнул Щеглов, промокая носовым платком пальцы, расстроенный, ошеломленный еще неостывшими подробностями смерти Ильи, гнетущей обстановкой морга, откуда брали тело покойного, замшелыми старыми крестами, покосившимися оградами запущенного кладбища на окраине Москвы, этого сельского погоста, где разрешили похоронить Илью. Щеглов с задумчивой скорбностью снял очки, беспричинно потер их о меховой борт печально молодящей его дубленки, пожевал губами, и вдруг здесь, на чистом полевом воздухе, открылась старческая прозрачность, сухость его лица, жилистые складки шеи, немощные морщины близкого к небытию человека, которому давно за семьдесят, и голос его послышался неузнаваемо ослабленным, неживым, не сумев набрать обычную полнозвучную едкость, призывающую жить смеясь.
- Все грустно, грустно и грустные для всех нас звоночки из вечности... Напоминание о том, что всем срок отпущенный дан. И там в небесном списке роковой крестик в один прекрасный день будет поставлен. Милостивый, пронеси, оставь меня здесь глупого, грешного, влачить дни свои, - сказал он спустя минуту молитвенным и одновременно скептическим тоном опять взятой игры, очевидно, закрываясь и страшась выказать то панически ужасающее перед неизбежным, что против его воли, неожиданно обнаружилось в его лице. Извините великодушно, друзья, но грандиозную штуку в прискорбный час вспомнил, - продолжал он, нарочито растягивая слова, будто неунывающе смакуя их, и надел очки, выразительно собрав морщины на лбу под надвинутым, тоже молодящим его, беретом. - Месяца три назад хоронили старого режиссера Серебровского на Новодевичьем. Все чинно, мирно, красивые эпитеты: "выдающийся", "незабвенный", "старейший". И прочая... А когда в конце все к воротам, думая о поминках, направились, ко мне подходит молодежь из его театра, здоровенные, знаете ли, бугаи и кобылицы, и так это озабоченно спрашивают: "Ну, а ваше здоровье как?" Грандиозно и прелестно! Мм?..
- Это вы уже рассказывали. Нам что - следует улыбаться? - угрюмо проворчал Лопатин и прекратил тряпкой вытирать руки, покосился на Марию, задержавшуюся у могилы и торопливо раздававшую из сумки деньги четырем парням с лопатами. - Маша, лишнее! Хватит! Не развращай ребят, слышишь! С ними расплатились сполна и больше! - зарокотал он, укоризненно окая, и Васильеву особенно очевидно стало, что без энергии и помощи Лопатина невозможно было бы пройти через целый лабиринт разрешений и формальностей, согласований, бумаг и бумажек для того, чтобы похоронить на родной земле человека с иностранным паспортом.
- Странно, как странно... - шептала Мария, медленно подходя с опущенными глазами, и ее ресницы были тяжелые от слез.
Щеглов взял ее под локоть, слабо поцеловал в черную замшу перчатки около запястья и подвел к машине.
- Все странно, Машенька, на этом свете, все странно, - выговорил Эдуард Аркадьевич, потупясь, сокрушенно соучаствуя в скорбной растерянности Марии. - И странно то, родная, что после смерти человека его жизнь кажется простой штукой, как овечье "ме".
- А мне никогда этого не казалось, - возразил с хмурым преодолением в голосе Васильев. - Вы чушь, простите, сказали. Не понимаю вашего нелепого остроумия и вашего неуместного веселья.
- О, вы стали ужасными! Вы оба беспощадны ко мне! И вы, Александр Георгиевич, и вы, Владимир Алексеевич! Вы стали невыносимыми! - тонко взвизгнул Эдуард Аркадьевич и заморгал, задышал носом, всхлипнул совсем по-детски обиженно (а этого с ним прежде никогда не случалось, вроде все подпорки в нем разом сломались) и, сгорбленный, тряся головой, отчего оскорбленными кивками мотался на его голове широкий берет, на ощупь схватился за ручку дверцы лопатинской машины, тщетно силясь открыть ее и повторяя слезными, упрекающими вскриками: - Скорее, скорее, прочь отсюда! Я прошу отвезти меня домой... Боже, мое веселье! Веселье человека, которому невесело жить! Вы оба меня не любите!.. Вы меня ненавидите... и это чудовищно несправедливо! Я прошу вас уважать хотя бы мою старость!..