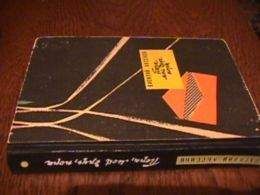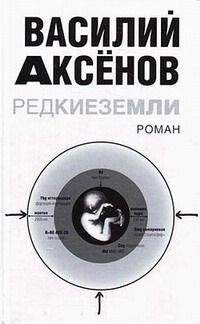Александр Кабаков - Аксенов
А.К.: Я вот сейчас о себе думаю. И, извини за пафос, думаю весьма честно. Вот если бы в семьдесят втором там каком-нибудь году, когда я мечтал опубликовать свою первую повесть, ее бы вдруг сдуру опубликовали, то я, может, еще тогда стал бы советским писателем, как, допустим, Юрий Михайлович Поляков? Кстати, моя повесть была ничем не более антисоветская, чем его первая повесть в «Юности» про комсомольцев «ЧП районного масштаба», он, пожалуй, даже резче моего написал, он ведь меня помоложе как-никак и писал позже. Но она прошла, а моя не прошла, а вот если бы прошла, то, глядишь, был бы я, увы, совершенно советский человек. И рано или поздно советская власть меня поставила бы в такое неудобное положение, в котором я должен был бы выбирать: или я все еще приличный человек, или уже непристойный.
Е.П.: I’m afraid that… боюсь, что поставила бы. Если взять подшивку журнала «Юность» за оттепельные годы, то там найдешь очень много имен людей, которые хорошо начинали и прескверно кончили.
А.К.: Вот и с Васей произошло то, что сначала советская власть решила, что из него можно сделать своего, и раскрыла ему объятья…
Е.П.: Тем более что он этой власти немножко подмигивал, как морячок из его же рассказа «На полпути к Луне», который все по горлу пальцем стучал, делая кому-то приглашающие выпить знаки.
А.К.:…но не случился у них роман. Мало у кого из заметных писателей случился. Диапазон отторжения был от сознательной враждебности до постепенного неприятия и полного развода, как у Аксенова. Ну почему все-таки не позволили Аксенову, несмотря на все перечисленное, стать нормальным советским писателем? Ведь формализм его учителю Катаеву простили. Равно как и «идейно ущербное», говоря гэбэшным языком, содержание катаевской повести «Уже написан Вертер». Ввиду старости и заслуженности?
Е.П.: И ввиду того что Валентин Петрович всегда живо и верноподданически откликался на любой бред партии и правительства. Аксенов же один-единый раз напечатал письмо в «Правде» по просьбе Бориса Полевого, заклинавшего «звездного» автора спасти журнал «Юность» от Хруща, а потом всю жизнь мучился, что дал слабину. И — Катаев был лауреатом Сталинской премии, Героем Социалистического труда, а против Аксенова каждый год какие-нибудь кампании разводили. То появлялось письмо мифических «крымских таксистов» по поводу «клеветнического рассказа “Товарищ красивый Фуражкин”», то поднимали хай из-за публикации в журнале «Кодры» стихотворного отрывка, показавшегося «Литературной газете» непристойным. Это, кстати, был отрывок из тайного антисоветского «Ожога», о чем, естественно, никто тогда не знал, но чутью «Литературки» можно только позавидовать. К слову, если забежать вперед, уже в годы перестройки коммунисты спустили на Аксенова всех собак, обвиняя в низкопоклонстве перед США и напечатав, как в старые добрые времена, в журнале ЦК КПСС «Крокодил» целую подборку писем разгневанных «трудящихся». Помню, к слову, что в начале шестидесятых этот же «орган» отличился тем, что просто, без комментариев, перепечатал стихотворение Беллы Ахмадулиной «Маленькие самолеты», совершенно аполитичное. Дескать, полюбуйтесь, дорогие читатели, какой бред сочиняют эти молодые писатели, существующие на народные деньги! Так что Катаеву, я думаю, изысканную форму простили в виде исключения. А у других были в связи с этим сильные проблемы. У того же Битова, например, с романом «Пушкинский дом». Советская власть понимала: этим аксеновым-ахмадулиным-битовым полмизинца дай — они всю руку оттяпают. Форма! Говоря об Ахматовой, советские мерзавцы с наслаждением цитировали довольно дурацкий ответ Маяковского на вопрос одного из читателей, как он оценивает стихи Ахматовой по форме. «Форма как форма, белогвардейская», — весело острил «агитатор, горлан, главарь».
А.К.: А вот Васе Маяковский нравился.
Е.П.: Я здесь ни при чем. Он и Цветаевой нравился. А я ни Цветаеву, ни Маяковского не люблю. Мое право.
А.К.: Твое, твое! Ты что разошелся?
Е.П.: А я вот хочу проиллюстрировать тему советскости Василия Аксенова одной знаковой историей, которую он же мне и рассказал. Однажды наш Василий Павлович сидел в «Пестром зале» ЦДЛа, пил нечто из бутылки и стакана, и вдруг сидевший рядом с ним за барной стойкой какой-то писатель внезапно разворчался примерно как старик Моченкин в «Бочкотаре»: что нынешняя литературная молодежь не знает советских классиков, не выказывает им никакого почтения. Тогда Аксенов его и спрашивает: а кто ж вы такой? Тот говорит: «Губарев моя фамилия, и я, между прочим, первым открыл Павлика Морозова, книгу про него написал, которую в школе изучают!» — «А-а-а, так это вы, значит, воспели юного предателя, поздравляю», — мгновенно отозвался Аксенов. Тот опешил и говорит: «Чего-чего? А ну-ка, сиди здесь, никуда не уходи…» — и куда-то побежал, скорей всего цэдээловскому гэбэшному куратору жаловаться. А тот ему скорей всего ответил, что это же Аксенов, что с него взять? Старик возвратился злой как черт, бормотал, что кругом одни антисоветчики, и с тех пор повадился Васю преследовать. Как его увидит, обязательно какую-нибудь политическую гадость скажет. И вот однажды в ЦДЛе напился будущий редактор «Континента», а тогда сотрудник журнала «Октябрь» Владимир Емельянович Максимов. Напился и вдруг вскричал, покидая этот «дом нечестивых»: «Коммунистов на фонари! Коммунистов давно пора вешать!» А случившийся рядом Губарев тут же засуетился и начал Василию дело шить: «Товарищи! Будьте свидетелями. Все слышали, как Аксенов предлагал уничтожать коммунистов?» Тут наш Василий осерчал, прижал старика к стенке, двинул ему под дых и спросил: «Больно? Так вот если ты, старая падла, от меня не отвяжешься, я тебя вообще пришибу». И случилось чудо. Губарев действительно к Аксенову больше не лез. Очевидно, подумал, что идеология — она, конечно, идеологией, а вдруг и на самом деле пришибет, реально, а не на бумаге? Хотя… какой Губарев тогда был старик? Ему тогда и шестидесяти не было.
А.К.: А слабо было Васе просто сказать: «Слушай, иди ты, старый мудак, некогда мне с тобой и с твоим Павликом разбираться!»
Е.П.: Давай не будем беллетризировать действительность.
А.К.: А чего ее беллетризировать? В начале семидесятых чистота идеалов успеха уже не имела даже у официалов, наоборот, воспринималась как некая придурь или демагогия. Понимаешь, чем советские писатели отличались от других советских людей? Они думали, что ЦДЛ — это метафора советской жизни. Что наша страна — один огромный ЦДЛ. Они в этом были уверены, как чеховские персонажи в том, что вся Россия — вишневый сад. Тут пьяный Максимов, отсидевший по уголовной статье, призывает коммунистов вешать, там выпивает плейбой Аксенов, в углу ест бифштекс Юз Алешковский, член Союза писателей по детской секции и автор песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которую знает вся страна и уважают даже стукачи, в парикмахерской стригут, в парткоме заседает партком, внизу отсидевший в ГУЛАГе брат Сергея Владимировича Михалкова, бывший разведчик Михаил Михалков, копия сам автор гимна, играет в бильярд, в буфете бранится старый классик-стукач, с ним вступает в перепалку, допустим, стукач нового поколения, написавший не про Павлика, а про БАМ… Они подерутся, их разнимут, и, если не выгонят, они снова подерутся. В Большом зале в это время — закрытый просмотр. Только для членов СП СССР. Показывают черно-белую, краденную советскими дипломатами копию фильма Боба Фосса «Кабаре»… В Малом зале наконец-то разрешили вечер Марины Цветаевой… Многим, очень многим этот мир представлялся вечным.