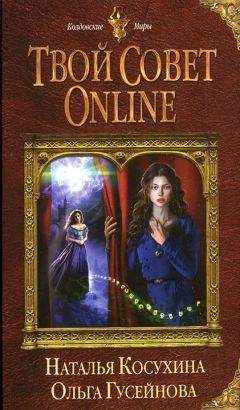Алексей Карпов - Андрей Боголюбский
Чем объяснить этот чудовищный разгул жестокости во Владимире и других городах Ростовской земли? Невольно закрадывается мысль, что многое совершалось не иначе как с молчаливого согласия князя, что Андрей — пускай и косвенно — причастен к вышеописанным злодеяниям. Ведь трудно допустить, что Феодор творил их совсем уж без ведома князя! Наверное, тот до времени попросту закрывал на них глаза? Или всё было не так? Более века назад свои ответы на эти вопросы предложил знаменитый историк Русской церкви Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834–1912), сведший почти всё к борьбе Феодора и Андрея за автокефалию (независимость) своей церкви. «Эти неистовства должны значить, — писал он, — что между епископом Ростовским, который объявил себя автокефальным, и между митрополитом Киевским, который не хотел признавать его автокефалии, завязалась ожесточённая борьба, — что в этой борьбе духовенство и граждане владимирские разделились на две враждебные партии, из которых одна держала сторону епископа, а другая — сторону митрополита, и что епископ с князем и воздвигли беспощадное гонение на сторону с ними несогласную, хотя весьма может быть, что, изображая эту беспощадность гонения и представляя её беспричинным неистовством Феодора, летописцы и впадают в большее или меньшее преувеличение. Могло дело доходить и до затворения всех храмов владимирских — этот поступок со стороны епископа мог значить то, что он хотел подействовать на сторону ему враждебную посредством церковного отлучения. Конец борьбы был тот, что Боголюбский выдал своего епископа митрополиту. Что принудило к этому князя, и притом такого, вовсе не имевшего охоты уступать кому бы то ни было, как Боголюбский, остаётся неизвестным; но вероятно то, что Феодор, не успев добыть автокефалии в Константинополе, объявил себя автокефальным самозванно, что митрополит успел доказать это и что таким образом он успел вооружить против него, как против наглого обманщика, общественное мнение России, которому и не нашёл возможным или благоразумным сопротивляться Боголюбский»{277}. Возможно, это всего лишь домыслы маститого историка. Но нельзя исключать и того, что дело обстояло именно так или примерно так. Во всяком случае за прошедшие сто лет мы не получили в свое распоряжение какие-то принципиально новые данные, которые позволили бы прояснить картину и предложить иной ответ на поставленные вопросы. В истории сплошь и рядом бывает так, что мы знаем лишь последствия, лишь внешнюю канву событий, но не знаем их истинных причин.
Итак, Феодор был лишён сана, схвачен и в оковах отправлен в Киев. Здесь и состоялся суд над ним, устроенный митрополитом. Решение суда оказалось также жестоким до крайности, не имеющим прецедентов в русской церковной истории того времени. И оно также свидетельствует о том, что озлобление в обществе достигло крайней степени, не миновав и церковных иерархов.
«Митрополит же Костянтин об[в]ини его всими винами и повеле его вести в Песий остров», — читаем в Ипатьевской летописи{278}.[130] «Пёсий остров» — вероятно, один из существующих и поныне небольших островков на Днепре, против Киева, но какой именно, неизвестно. Название его, скорее всего, связано с тем, что здесь находились княжеские псарни. Но то, что судьба ростовского «лжевладыки» решалась именно на «Пёсьем острове», не могло не показаться знаменательным его врагам: иначе чем как к псу, собаке, церковные власти Киева к нему, наверное, не относились.
В суде над Феодором участвовали епископы, и среди них — туровский епископ Кирилл, который, как мы знаем из его Жития, обличил «Федорца» «от божественых писаний» как еретика. В вину «лжевладыке» была поставлена «хула» на Богородицу, но что стояло за этим грозным обвинением в ереси, в точности неизвестно. Отлучение от сана было подтверждено и дополнено публичным проклятием, после чего бывшего ростовского владыку подвергли жестокой казни: «…и тамо (на «Пёсьем острове». — А. К.) его осекоша, и языка урезаша, яко злодею еретику, и руку правую отсекоша, и очи ему выняша, зане хулу измолви на Святую Богородицю». Слово «осекоша» означает, что несчастному в конце концов отрубили голову. «…Тако же и сей бес покаянья пребысть и до последняго издыханья, — продолжает летописец, — уподобивъся злым еретиком, не кланяющимся, и погуби душу свою и тело, и погыбе память его с шюмом». И ниже: «Се же спискахом, да не наскакають неции на святительский сан… Тако и сь Феодорець, и не въсхоте благословленья, и удалися от него: злый бо зле погыбнеть (ср. Мф. 21: 41)»[131].
Как оценить этот эпизод в биографии Андрея Боголюбского? Конечно же и он едва ли украшает его. Но Андрей и здесь поступил так, как считал нужным. И добился-таки своего. Одним ударом Андрей разрубил целый клубок противоречий — завязанный, заметим, при его непосредственном участии. А вместе с тем — пусть и таким страшным способом и чужими руками — избавился от человека, который мешал ему вести княжество нужным ему курсом. Князь разуверился в нём — и прежние заслуги его любимца были забыты, обращены в ничто. Феодор был обвинён в ереси — а это оправдывало и его изгнание из Ростовской земли, и его жестокую казнь в Киеве. Но ещё важнее другое. Расправа над «злым и пронырливым» еретиком была воспринята летописцем как очередная заслуга Андрея перед православным миром, как новое подтверждение его благочестия и правоверия. И именно в связи с «делом Федорца» в летописи впервые используются «царские» эпитеты применительно к князю Андрею. Он ещё не назван «царём» напрямую, но летописец так повествует о «новом чуде», совершённом во Владимирской земле: Бог спас «людей своих сих кротких… от звероядиваго Феодорца погибающих… рукою крепкою и мышцею высокою, рукою благочестивою царскою правдиваго и благовернаго князя Андрея»{279}.
Вот так, не больше и не меньше.
Давно замечено, что Суздальская летопись при князе Андрее Боголюбском вся выстроена «как цепь чудес Богоматери»{280}. В той же летописной статье — в параллель к «новому чуду» Владимирской иконы — рассказывается о событиях в Южной Руси в первые месяцы княжения в Киеве Глеба Юрьевича и ещё об одном Богородичном чуде — на этот раз не владимирском, а киевском:
«В то же лето чудо створи Бог и Святая Богородица церкве Десятиньныя в Киеве, юже бе создал Володимер, иже бе хрестил землю Русьскую и дал бе десятину к церкви той по всей Русьстей земли: створи же… Мати Божия чюдо паче нашея надежа…»{281}
Случилось же вот что. Как всегда бывало при смене князей в Киеве, к русским границам подступили половцы, намеревавшиеся заключить договор с новым киевским князем и получить от него богатые подарки. На этот раз явились сразу две половецкие орды: одна вступила в пределы Переяславского княжества, а другая двигалась по противоположной, правой стороне Днепра, к Киеву, и остановилась у Корсуня, города на реке Роси, правом притоке Днепра. Послы от обеих орд прибыли к Глебу, требуя его, по обычаю, к себе на «снем»: «Хощем с тобою поряд положите о всём и утвердитися межи собою, и внидем в роту (клятву. — А. К.), а ты — к нам: да ни вы начнёте боятися нас, ни мы вас». Глеб обещал приехать и к тем, и к другим. Но надо было решить, к кому первым. Посоветовавшись с дружиной, Глеб двинулся сперва к Переяславлю, «блюдя Переяславля, — объясняет летописец, — князь бо переяславльский Глебович Володимер в то время бяшеть мал, яко 12 лет». К «корсунским» же половцам князь отправил посла, обещая приехать позже. Но не тут-то было. Пока Глеб мирился с левобережными половцами, правобережные бросились грабить киевские сёла. Половцы захватили Полоный, «град Святей Богородицы Десятинной» (переданный клиру Десятинной церкви, вероятно, ещё Владимиром Святым), и другой город — Семыч, «и взяша сёла без утеча (то есть захватили всех жителей, поголовно. — А. К.), с людми, с мужи и жёнами, кони, и скоты, и овце», и погнали весь полон к себе, в Поле. Глеб узнал о случившемся, возвращаясь от Переяславля. Он хотел броситься в погоню за половцами, но берендеи, бывшие в составе его войска, остановили князя. Летописец приводит их слова, показательные для правильного понимания сущности княжеской власти в то время: