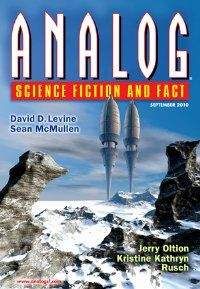А. Смелянский - Михаил Булгаков в Художественном театре
Булгаков тем не менее попытался взять за горло самолюбие и начал переделывать пьесу. Работа над „Пушкиным“, которая вступала в завершающий этап, была отодвинута. Булгаков стал вставлять „зеленые заплаты в черные фрачные штаны“.
Естественно, что Станиславскому нужны были не эти заплаты, а нечто совсем другое. Ему надо было, чтобы автор полюбил его замысел, его образ гениального Мольера и, полюбив, написал бы текст на том уровне, на котором мог написать Булгаков. Драматург же приносил именно „заплаты“, которые вызывали раздражение актеров и удивление Станиславского.
Кроме того, по мере новых репетиций у Константина Сергеевича рождались новые замыслы. Ему показалось важным ввести в пьесу собственные мольеровские тексты (в эпизод репетиции Арманды и Муаррона), чтобы показать все ту же искомую гениальность Мольера. Актеры, естественно, „хищно обрадовались“ возможности дополнительного текста (и какого текста!). Горчаков попытался возразить, что стилистически мольеровский текст никак не может сочетаться с булгаковским. Но репетиция прошла азартно, автора на репетиции не было, и фантазировать было легко и приятно.
Репетиции Станиславский вел по новому методу, который был связан с физическими действиями как основой сценической жизни актера в роли. Мхатовские актеры, в работе со Станиславским не встречавшиеся несколько лет и отрепетировавшие пьесу еще до прихода в Леонтьевский переулок, воспринимали предложения режиссера с большим трудом. Текст уже был выучен, и начинать все с нуля никто не хотел. Постепенно создалась странная обстановка: Станиславский каждую сцену, которую он брал в работу, превращал в „учебный класс“, а параллельно на сцене Филиала шли репетиции в декорациях и костюмах, которые Горчаков вел, так сказать, по старинке. Горчаков иногда стал пропускать репетиции в Леонтьевском, а Булгаков, понуждаемый необходимостью править текст, взял отпуск и попытался дома выдавить из себя какие-то предложения. Актеры тоже потихоньку начали пропускать репетиции, не видя им конца. В книге Горчакова, в которой легенды и факты причудливо перемешаны, рассказано, что после первого просмотра у Станиславского была назначена специально для Булгакова важнейшая репетиция, на которой Станиславский хотел практически показать драматургу все уязвимые места и просчеты пьесы. Он хотел показать пьесу „в схеме“, чтобы убедить Булгакова продолжить работу над текстом. „Как часто неожиданно случается в театре, — вспоминал Горчаков, — на следующий день заболели три основных исполнителя пьесы: В. Я. Станицын, М. М. Яншин, М. П. Болдуман“, и показательную репетицию пришлось заменить другой, „не по основной линии пьесы, не по образу Мольера“. На самом деле по дневнику репетиций видно, что произошло это событие не на следующий день после показа, а через месяц, 4 апреля, когда на репетицию в Леонтьевский не явились одновременно Станицын, Яншин, Ливанов, Гаррель, Герасимов, Курочкин, Ларин и Шелонский. В журнале коротко записано: „отсутствовали по болезни (простуда)“. Эта подозрительная простуда, скосившая сразу всех ведущих исполнителей, однозначно будет потом истолкована в „Театральном романе“. Роман, конечно, не может быть учтен как документальное свидетельство, но как свидетельство психологическое можно принять к сведению язвительный комментарий по поводу Патрикеева, внезапно заболевшего насморком: „Ну, насморк его скоро пройдет (объясняет Бомбардов Максудову. — А. С.). Он чувствует себя лучше и вчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете эту картину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки у других. И прежде всего, я думаю, у Елагина“.
Станиславский, увлеченный педагогическими проблемами, как бы не замечал того, что спектакль находится в стадии выпуска. Устремленный к своим высшим целям, он не желал считаться с настроениями актеров, которые шли к премьере и меньше всего хотели заниматься этюдами и педагогическими упражнениями на четвертом году репетиций. Для режиссера булгаковская пьеса была поводом еще раз убедиться в правоте и силе своего нового метода, замыкавшего, как казалось Станиславскому, свод театральной системы, которой он отдал жизнь. „Я еще не нашел ход к вашим сердцам, — внушал Станиславский актерам на репетиции 15 апреля, — а когда вы поймете, вы поразитесь, как все это просто“. Надо сказать, что участники „Мольера“ были очень далеки от искомого „понимания“.
Станиславский пользовался любой возможностью, чтобы показать актеру путь к правде органического существования в роли — от „маленькой правды“ физического действия к чувству. Он затрачивал порой целые часы на то, чтобы показать, как носили костюм, как кланялись, как держали шляпу с пером, как пользовались тростью. Репетиции превращались в педагогические занятия, в блистательные актерские импровизации самого Станиславского, в пространные мемуары, которые раздражали драматурга. Но „перевоспитать“ за месяц актеров, перевести их в свою театральную веру Константин Сергеевич, конечно, не мог. Никакие упражнения по закладыванию рук под себя, чтобы жестами не мешать внутреннему действию, никакие воображаемые заклеивания воображаемых конвертов изменить готовый рисунок ролей не могли. Более того, то, что уже было наработано, стало исчезать. Актеры тушевались, не умея ответить на беспредельный уровень требований Станиславского,
останавливавшего исполнителя буквально на каждом слове. „Если думать все время о своих руках и штампах, то тяжело играть“, — обидевшись, сетовал Яншин, которому изрядно доставалось за его многолетне опробованные и безотказно действовавшие приемы. „При вас страшно играть“, — возражал Станицын, потерявший всякую ориентацию.
Станиславский раздаривал актерам замечательные идеи, придумывал в каждой сцене те самые „крантики“, которые должны были открывать роль. Он мог подсказать Станицыну, что в сцене с Шарлатаном тот испытывает „детскую взволнованность перед талантом. Так Гордон Крэг мог бы восхищаться и хохотать над каким-нибудь талантливо сделанным местом“. Он мог показать Соснину — Шаррону пластику идейного фанатика и вспомнить в связи с этим „тупоумного Блюма“, гонителя „Дней Турбиных“. Станиславский так, например, раскрывал сцену Шаррона и Мадлены в соборе: „Только не плачьте (это Л. Кореневой. — А. С.). Глаза устремлены куда-то в пустоту, в одну точку, все время видит дьявола. Почти сумасшедшая… Архиепископ относится к ней как к больной. Такой образ будет лучше, чем мелодраматичный. Никто так не может ласкать, как иезуиты и слепые. Недаром они имеют самый большой успех у женщин“. Скрупулезная работа шла со Станицыным и Ливановым. Сколько тонкостей актерских и человеческих взаимоотношений, сколько понимания актерской природы: „Смотрите на Муаррона, как Толстой мог смотреть — насквозь, прямо в глаза“. Подробнейшим образом Станиславский прошел со Степановой линию Арманды, создавая и здесь причудливую жизненную ткань: „эдакая французская мадонна, которая при случае может и канкан сплясать!“