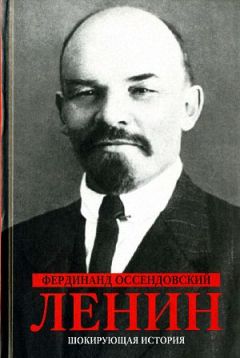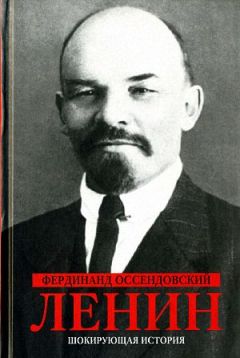Михаил Вострышев - Московские обыватели
«Он долго останется какой-то загадкой, — считал другой выдающийся адвокат В, Маклаков, — чем-то единственным, чуждым нам по душевному складу, но и бесконечно дорогим».
Плевако, приехавший учиться в Москву из Оренбургской губернии с пустым карманом и полным отсутствием влиятельных знакомств, лишь благодаря своему таланту стал знаменитым адвокатом и состоятельным человеком. Его судебные речи никогда не походили одна на другую, в них не встретишь ни однообразия, ни позерства, ни злости. «Не с ненавистью, а с любовью судите» — высечено на его памятнике.
Федор Никифорович был джентльменом в приемах судебного спора, относясь без предубеждения к прокурору и снисходительно к свидетелям. «Подсудимый и прокурор, — говорил он, — вот разные стороны, противники. Себя же я считаю тринадцатым присяжным с совещательным голосом и говорю не от имени подсудимого, а как судья должен делать и говорить на моем месте».
Защита обвиняемого у него никогда не превращалась в защиту преступления. Обладая врожденным чувством чести и уважения к своей профессии, он никогда не врал в суде. Так, в конце речи в защиту Максименко, обвинявшейся в умышленном отравлении мужа, он сказал:
— Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу: да, убежден. Я лгать не хочу. Я и не говорю о вине или невиновности, я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела… Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения должны решаться в пользу жизни. Таково веление закона и такова моя просьба.
При почти полном отсутствии полемики с обвинителем Плевако побеждал своим артистизмом, ораторским талантом, точным психологическим анализом происшествия. Главная сила его речей — воздействие на чувства слушателей.
Адвокат Н. К. Воскресенский вспоминал, как в начале 1870-х годов впервые слушал Плевако, защищавшего двух братьев Б., обвиняемых в избиении Г., пытавшегося соблазнить молоденькую жену одного из братьев.
«И нужно было слышать Федора Никифоровича, эти глубокие тона его бархатного голоса и наблюдать игру его подвижной физиономии, когда он свободными художественными штрихами рисовал картину обстановки богатого дома Б. в надвигающиеся зимние сумерки. До ясности непосредственного наблюдения слушатели видели позу Г. за креслом юной хозяйки, у топящегося камина, когда Г., по выражению Федора Никифоровича, начинал разговоры на тему неопределенных переживаний, какие свойственно навевать юному воображению сумерками в связи с причудливой игрой светотеней от горящего угля и смутными запросами человеческой души.
Картина обольщения выходила такой правдивой, возможные последствия его так вероятны, что последующая грубая расправа представлялась делом самообороны. Братья Б. были оправданы, а публика удалена из зала из-за слишком восторженных оваций по адресу Федора Никифоровича».
Его любовь к фразе многие коллеги считали крупным недостатком, уверяя, что Плевако гонится за внешними эффектами и банальной риторикой. Но именно он лучше других мог аргументировать свою речь. Пафос, ирония, зримые художественные образы, ссылки на Судебные уставы, цитаты из Библии и римского права были лишь аранжировкой его глубокой убежденности в правоте своей мысли, его прозорливого понимания жизни. Он поднял еще незапятнанное юное знамя русского адвоката на недосягаемую высоту, его речи побуждали людей и за стенами суда к милосердию и справедливости.
Когда он вставал перед присяжными, вспоминала стенографистка судебных процессов, «лицо покрывалось бледностью, черные глаза становились не только одухотворенными, но и красивыми, по адресу суда лилась изящная, полная остроумия и содержания импровизация на любую тему».
Этот полуполяк, полубашкир с открытым широким лбом, монгольскими глазами и львиной гривой волос, спадающих на плечи, был истинный русский человек, в нем жило искренне национальное чувство, боль за грехи России, горе от ее неудач, гордость и радость в дни славы и побед.
Во время политических распрей начала XX века Плевако отличался терпимостью, благодушием и уважением к противоположному взгляду, если он навеян любовью к человеку, а не ненавистью.
— Всякий любит родину, только по-своему, — говорил он незадолго до кончины. — Любит ее и стародум, воспитанный на внешних проявлениях ее величия, и этим внешним формам приписывающий и то историческое, великое, что совершалось, несмотря на убийственную тяжесть форм. Любит ее и честный мыслящий доктринер, которому кажется, что книга управляет жизнью, а не жизнь диктует и поправляет книги. Любят, несомненно, если не самую страну, то меньшую братию, и те, кто изверился в достижимости блага при современных формах общественности. Не любят разве только те, кому хочется все уничтожить, все залить кровью, кому чувство злобы застилает глаза, затемняет сознание…
Правы были его коллеги по сословию присяжных поверенных, говоря, что Плевако так и остался в русской адвокатуре одиноким и единственным.
Маг и волшебник. Антрепренер и режиссер Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906)
На Антроповых ямах, между Божедомским переулком и Самотекой, москвичи попадали в сказочную страну с густым старым лесом, холмами, изрезанными тропинками, большими, с проточной водой прудами, таинственными беседками, двумя деревянными театрами, тиром, рестораном, буфетами, открытыми площадками для игр и представлений, аллеями, залитыми светом газовых и электрических фонарей.
В небе — красочные фейерверки, воздушный шар с бесстрашным аэронавтом, эквилибрист-канатоходец на тонкой проволоке. В воде покачивается гондола, русская и турецкая эскадры ведут бой, плещутся нимфы. На берегу — фантастическая феерия, соревнования гимнастов, состязания по бегу. На специальных летних площадках — выступления цыганского хора, негритянского ансамбля, военного оркестра. В театре «Антей» — премьера веселой оперетки с лучшими московскими актерами: Зориной, Запольской, Давыдовым, Родоном. В другом театре профессор магии удивляет публику волшебными фокусами.
В театральной ложе восседает генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, в ресторане в окружении дам ужинает полицмейстер Н. И. Огарев, в тире сбивает подсвеченные фигурки врач и литератор А. П. Чехов. Вся Москва собралась тут: чванливые дворяне, разухабистые купцы, осмотрительные чиновники, любопытные мастеровые. Семейные пары, кокотки, пьяницы, холостяки, отставные генералы — людей всех сословий и положений неудержимо тянет в сад «Эрмитаж»[10].
«Сказка, а не сад, — вспоминает В. М. Дорошевич. — Я видел все увеселительное, что есть в мире. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке нет такого сказочного увеселительного сада».