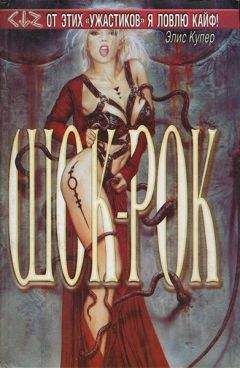Александр Воронский - Гоголь
Надо было соединить телесное, вещественное с духовным. Гоголь так именно и понимал основную задачу искусства. «Искусство должно изобразить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый из нас почувствовал, что это — живые люди, созданные из того же тела, из которого и мы. Искусство должно выставить нам на вид все доблестные народные наши качества и свойства, чтобы каждый почувствовал их в самом себе и загорелся бы желанием развить и возлелеять в себе самом то, что им заброшено и позабыто… Тогда только таким образом действуя, искусство исполнит свое назначение и внесет порядок и стройность в общество». (Т. IV, стр. 140 — 41.)
Какими же средствами достигается в искусстве это совмещение телесного и духовного, действительного и воображаемого? В практике Гоголя оно достигалось путем соединения натурализма с символизмом. Откуда Гоголь почерпнул символизм? Он почерпнул его из древних образцов всемирной и русской литературы, от Пушкина и Жуковского. Но он придал символизму свой, гоголевский характер.
Основная манера Гоголя заключается в реалистическом символизме: Гоголь берет крайний реализм и подчиняет ему символ; получается необыкновенно причудливый сплав. Изображая действительность со всей силой натурализма, со всей ее низменностью, не брезгуя малейшими подробностями, Гоголь одновременно возводил эту действительность в символ.
Маниловы, Собакевичи, Петухи натуральны до галлюцинаций и вместе с тем каждый из них символизирует какую-нибудь «страстишку»; реалистические подробности имеют свой сокровенный смысл: например, шкатулка Чичикова, его бричка, фрак наваринского племени с дымом, немая сцена в «Ревизоре» и т. д. В символе Гоголь старался уничтожить раздвоенность между материальным и духовным, между субъективным и объективным. Поднять реальность до высоты обобщающего символа и означало — по его мнению — возвести явления жизни «в перл создания».
Роль символа Гоголь отлично понимал: в черновых заметках по поводу «Мертвых душ» он записал:
«Как низвести все миры безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? И как городское безделье довести до преобразования безделья мира?»
Своеобразным «преобразованием» является и «Страшная месть», и «Вий», и «Шинель», и «Нос», не говоря уже о главной поэме и о «Ревизоре». Символичны колдун, панна-ведьма, нежить, чорт, Хлестаков, Чичиков. Все эти символы венчаются одним грандиозным символом мертвых душ. Благодаря такому «преобразованию» гоголевские персонажи, являясь до жуткости реальными, в то же время уводят куда-то в бесконечность. На эту их черту указал еще Овсяннико-Куликовский. Каждый из них, умножаясь и повторяясь, как бы открывает собой перспективу в бесконечность: дореформенные Коробочки ведут к Коробочкам пореформенным, к русским, французским, к тем, которые еще будут.
В искусстве Гоголь искал гармонии и примирения между низменным материальным началом мира и началом духовным. Известное, относительное удовлетворение он получил в творческом акте. О реалистическом символизме, когда «вещественность» преображалась и олицетворяла собою нечто духовное, а главное, когда в этой вещественности он видел намеки, проблески на высшую духовную жизнь и на высший смысл. Это удовлетворение иногда чувствуют и читатели.
По справедливому замечанию В. Г. Короленко, стоит только от неискренних, тяжелых и мрачных писем Гоголя перейти к его художественным произведениям, начинаешь испытывать отрадное облегчение, «точно струя свежего воздуха врывается в больничную палату». («Трагедия великого юмориста», том II.)
Когда искусство уже не могло примирить Гоголя с жизнью, когда его создания начали его страшить и он даже стал верить в их особую реальность, в их жизнь, в бессмертие, увидев в них мрачное торжество низменной и пошлой материальности, художник обратился к религии, к аскетизму. «Вещественность» уступала место болезненным парениям духа. Реалистический символизм сделался невозможным. Если бы Гоголь продолжал свою художественную деятельность, он все больше и сильней превращался бы в отвлеченного и тенденциозного символиста-схематика. Это было неизбежно при уходе писателя от действительности. Роковые признаки такого превращения нетрудно заметить в образах князя и откупщика Муразова. Смерть избавила Гоголя от этой самой страшной участи художника…
Как уже отмечалось в главе о «Мертвых душах», у Гоголя все двойственное, доведенное до самых резких противоположностей и все же соединенное гениальным мастером.
Двойное бытие.
Двойная Русь: она до тоски убога, прозаична, неподвижна, темна, грязна, и она чудодейна, сказочна, она — в полете, несется неведомо куда, но в прекрасную даль.
Двойственны герои: они погрязли в пошлом существовании, в стяжательстве, но и в них брезжит нечто, обнадеживающее, некий намек на духовное возрождение. Так, по крайней мере, выходит по намерениям автора.
Двойственен пейзаж, соединяя свет и тень, цвет и линию, покой и движение, низкое и высокое, тяжелое и легкое. Он двойственен не только в «Мертвых душах»; двойственно изображен Рим и его окрестности: грузное, древнее, осевшее, но с плывущими и улетающими контурами и линиями, с воздушностью. Таковы же и украинские степи, ночи, Днепр и т. д.
Двойственен сюжет: внешне статистический, но внутренне динамический.
Двойственен язык. О языке Гоголя следует кое-что прибавить. Может быть, лучше всего сказать словами, которыми Гоголь закончил свою статью: «В чем же, наконец, существо русской поэзии?»
«Необыкновенный язык, — писал он, — есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков — от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названия из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной ни какому другому языку и опускаться до простоты, ощутительной осязанию непонятливейшего человека».
Эта характеристика должна быть отнесена прежде всего к самому Гоголю. Своеобразие его языка заключается в соединении речи прозаической с речью лирической, твердой и мягкой, «высокой» и «низкой». Гоголь пользовался широко выражениями разговорно-обиходного порядка, любил слова «захолустные», областные, слова намеренно искаженные, испорченные, употребляемые средней и малой руки помещиками, чиновниками, обывателями за едой, возлияниями, за картами и пересудами; но еще больше, пожалуй, он любил речения церковно-славянские, древнерусские, песенные.