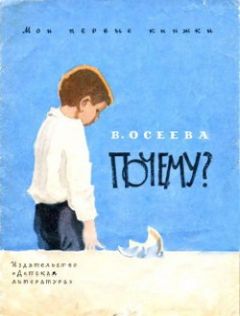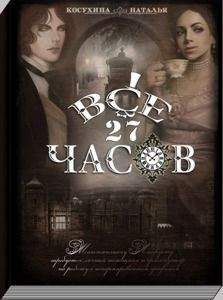Чеслав Милош - Азбука
Нельзя обойти вниманием мыслителя, которому я стольким обязан. Его книги стоят у меня на полке — я почитываю их время от времени. Впрочем, к нему обращались многие поэты и художники, хотя смысл того, что они у него находили, менялся. Он считался самым крайним пессимистом. Остается ли он таковым сейчас, когда мы подводим итоги двадцатого века? Если бы только мы прислушались к его предостережениям… Свои обязанности философа он выполнял добросовестно, не доверяя абстрактному познанию и считая, что понятия так относятся к наглядным данным, как эмиссия банкнот к золоту в банке, обеспечивающему их ценность. Жонглируя понятиями и не проверяя их в непосредственном созерцании, человечество приходит к самым чудовищным заблуждениям и преступлениям. «Трагическая сторона заблуждений и предрассудков относится к области практики, комическая — предстает в области теории: если бы, например, удалось убедить хотя бы трех людей, что солнце не есть причина дневного света, то можно было бы надеяться, что вскоре это станет всеобщим убеждением. Отвратительного, бездарного шарлатана и автора беспримерных по своей нелепости писаний, Гегеля, могли в Германии провозгласить величайшим философом всех времен, и многие тысячи неуклонно и твердо верили этому в течение двадцати лет <…>». Увы, намного дольше, чем в течение двадцати лет! Но ошибка в мышлении имеет свои последствия, и Шопенгауэр, боровшийся с немецкой философией своего времени, осознавал это. «Каждое заблуждение, — писал он (цитирую по книге „Мир как воля и представление“, том 2[486]), — должно рано или поздно принести свой вред, и тем больший, чем больше было оно само. Тот, кто питает индивидуальное заблуждение, должен когда-нибудь его искупить, и часто он платит за него дорогою ценой; то же самое, но в более широких размерах относится и к общим заблуждениям целых народов. Поэтому никогда не станет слишком частым повторение того, что всякое заблуждение, где бы мы его ни встретили, надо преследовать и искоренять, как врага человечества, и что не может быть привилегированных или даже санкционированных заблуждений. Долг мыслителя — бороться с ними, даже если человечество, подобно больному, к нарыву которого прикасается врач, будет громко кричать при этом».
И это цитирую я, некогда восприимчивый к мысли восхищавшегося Гегелем Станислава Бжозовского или, позже, Тадеуша Юлиуша Кронского. Однако отсутствие последовательности оказывалось моей силой, и верх брал другой полюс моего ума — пессимистический.
Визионерам, принимавшим потрясения Французской революции и наполеоновских войн за предзнаменование новой прекрасной Эпохи Духа, а также всевозможным социалистам-утопистам выводы Шопенгауэра должны были казаться странными. Впрочем, он шокировал и викторианскую мораль — открытостью, с какой писал о животных влечениях человеческого вида. Со временем к теории эволюции привыкли, но он говорил об этом еще до Дарвина. По словам людей, занимающихся биографией Дарвина, он читал Шопенгауэра и, видимо, кое-что у него заимствовал. Закон, управляющий естественным отбором и выживанием более приспособленных, Шопенгауэр называл универсальной Волей. У живых существ эта Воля, «вещь в себе», выражается в желании любой ценой сохранить и размножить свой вид, поэтому сильнее всего она проявляется в половом влечении. Воля есть самая суть мира. Она действует слепо, не заботясь о смерти бесчисленных миллиардов созданий. Человек, как и все животные, находится во власти этой универсальной Воли — именно она дает ключ к пониманию его физиологии и психики.
Иными словами, это просто образ мира, которым мы обязаны биологии, — не слишком утешительный, но иногда употребление горькой пищи рекомендуется. Правда, если бы философ из Данцига был всего лишь одним из редукционистов и обличителей девятнадцатого века, он не привлек бы восприимчивых и исстрадавшихся душ, художников и богоискателей. Шопенгауэровский мир как Воля — это мир боли и смерти живых существ, а мы, люди, не можем думать об этом без неизменного сочувствия, которое есть сострадание. Ибо человек — не только раб Воли, но и интеллект, хотя обычно интеллект бывает лишь орудием Воли. И все же он способен освободиться от давления требующих удовлетворения инстинктов и смотреть на всё отстраненно — тогда жизнь предстает адским кругом стремлений и страхов, которые по сути не более чем иллюзии, фантомы, внушаемые Волей.
Я испытывал соблазн «понимания истории», которому многие в моем веке ревностно следовали, множа идеи и идеологии. Однако более ранним был мой интерес к естествознанию, сопровождавшийся юношеским отчаянием из-за неумолимых законов Матери-природы, безразличной к страданиям и гибели своих детей. Поэтому пессимистическая философия подходила мне как нельзя лучше. Я поступил в университет, когда ректором был Мариан Здеховский, пожалуй, единственный настолько радикальный христианский пессимист, отрицавший какой бы то ни было смысл мира и глубоко переживавший его жестокость. Две другие важные фигуры в моей жизни — это Симона Вейль, почти последовательница катарской ереси, то есть манихейства, и Лев Шестов, восстававший против необходимости, против того, что дважды два четыре, против причинно-следственного закона. Не могу сказать точно, когда я начал читать Шопенгауэра. Он появлялся на разных этапах моей жизни.
Его поиски освобождения сочетались с презрением к большинству смертных, которые гонятся за исполнением своих желаний, как собаки за механическим зайцем. Неотъемлемой чертой человечества он считал метафизическую потребность, удовлетворением которой занимаются как религии, так и философия — истинная, ибо лишь такой он хотел служить. Он считал, что философия и религии идут как бы параллельными путями, и ценил те религии, которые смотрят на мир без иллюзий, то есть рассматривают его как юдоль слез. Язычество он не любил, ибо оно принципиально оптимистично. В Ветхом Завете его внимание привлекало только повествование о грехопадении прародителей и первородном грехе. Христианство подхватило эту тему — ведь его суть заключается в осознании испорченности материи. В двадцатом веке Шопенгауэру наверняка не понравилось бы заигрывание христиан с языческим миром и их клятвенные заверения, что они никогда не пренебрегали материей. Осознание, что бытие есть страдание, и сочувствие ко всему живому (не только к мукам людей) еще более явственно прослеживаются в буддизме, который был близок Шопенгауэру, хоть он и утверждал, что открыл его слишком поздно, когда его собственная система была уже готова.
Однако мне кажется, что наибольшее влияние Шопенгауэр оказал, провозглашая идею освобождения через искусство. Его занимала проблема художественного гения, который выступает против подчинения императиву Воли: