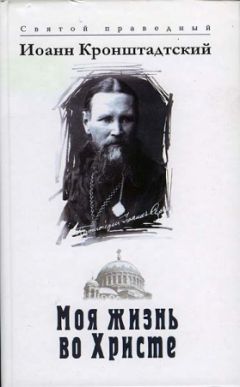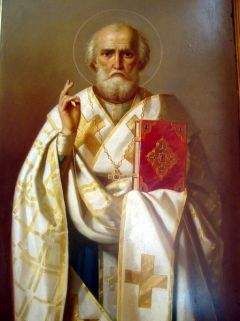Андрей Тарковский - Ностальгия
Андреев дает список вестников: «Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Мусоргский, Чайковский, Суриков, позднее Врубель и Блок». Прочитав список заново, я почувствовал, что со многим не могу согласиться. И сразу же пришла в голову первая поправка: дело не только в кризисе церкви. Развивая свою мысль, Андреев вспоминал И. С. Баха, Андрея Рублева… Да и в древности откровение приходило не только к законодателям, пророкам, проповедникам. Что такое псалмы Давида, Песнь песней, книга Экклезиаста и книга Иова? Это стихи и поэмы, которые умные левиты ввели в Святое Писание.
Если выйти за рамки иудео-христианской традиции, то в Индии вообще не было никаких справок о святости, никаких постановлений. Поэтов канонизировала память хранителей традиции. Что такое Веды индуистов? Адигрантх сикхов? Это сборники стихов. Что такое Бхагават Гита (песнь Господа) или Гита Говинда (песнь о пастухе)? Это поэмы. Новое духовное течение начиналось со стихов, потом эти стихи комментировались, возникали упанишады и даршаны (системы религиозной философии). Примерно как философия Хайдеггера, по его собственным словам, может рассматриваться как комментарий к «Дуинским элегиям» Рильке.
Мохаммеда сперва считали безумным поэтом; а потом, когда он стал законодателем, поэтическое откровение в мире ислама пробилось у суфиев. Их преследовали и казнили, но в конце концов ортодоксы примирились с суфизмом. И сегодня именно суфийская поэзия привлекает к исламу немусульман, становится неотделимой частью мировой религиозной культуры.
Организованная религия никогда не контролировала всей мистики. Мистические прорывы в творчестве поэтов так же стары, как сама религия. Но сегодня они приобрели особый смысл. Поэты, художники прорываются сквозь атеистическую культуру. Они свидетельствуют о реальности священного и вечного людям, для которых Бог — гипотеза, без которой легко обойтись, миф — это ложь, которой морочат дураков, и мир, освоенный умом, целиком укладывается в пространство и время. В этом пространстве и времени есть культура, есть поэзия. Для какого-то меньшинства поэтическое, в широком смысле этого слова, заменило священное. Это то, что придает жизни смысл. Я формально относился к неверующим, но травля Пастернака в 1958 году, была для меня кощунством и толкнула подумать, как бороться с кощунствующей властью.
В стихах я искал свою веру. В 1959 году мы вместе с Ирой Муравьевой начали составлять молитвенник интеллигента. Начали с Тютчева, наложили закладок в однотомник. Храню их до сих пор, хотя после смерти Иры почувствовал, что этих стихов мне мало, нужны какие-то другие стихи, чтобы заполнить дыру в сердце. Я по-прежнему любил Тютчева и Блока, а также Гумилева, Мандельштама, Цветаеву (которых Андреев не упомянул), но зубную боль в сердце они не залечивали, только смягчали. Задним числом прихожу к выводу, что есть вестники и вестники. Одни передают только смутное ощущение священного, дарящего жизни смысл, другие (их очень мало и в XIX, и в XX веках) способны ответить Иову. Видимо, надо отделить вестников от предвестников. Это первая поправка, первое уточнение концепции Даниила Андреева.
Второй вопрос: что передает вдохновение вестников? Только ли вести из миров иных? Я вполне допускаю, что существуют где-то миры, более продвинутые к духовному свету, чем наш, и к нам идут импульсы оттуда — а также из миров, еще больше погрузившихся в духовную тьму. Если можно, сидя в Москве, сосредоточиться на больном колене старушки в Нью-Йорке и подлечить ее (а такой случай я наблюдал), — то, видимо, некоторые импульсы передаются через нераздельную вечность, минуя пространство и время, и будь расстояние в несколько парсеков, оно ничего не меняет. Я готов представить себе вторую ипостась как незыблемое вечное тождество Сына Божьего, страдающего и воскресающего в пространстве и времени, и именно это созерцать как слово, без которого ничего не начало быть, что начало быть. Но есть еще Бог как Дух, разлитый повсюду и всюду доступный сосредоточенному взгляду.
Слова о мирах иных были сказаны Достоевским и означали у него примерно то, что Андреев назвал мирами просветления и мирами возмездия (по-старому говоря, небом и преисподней). Андреев представил себе наряду с этим и множество физических миров. Но живой опыт Андреева не укладывается полностью ни в то, ни в другое. Его проживание на реке Неруссе 29 июля 1931 года не открыло неземных миров, только землю — но как сияющее целое, как мир повседневного опыта, подсвеченный изнутри и преображенный. Это было взглядом на грешную землю с высоты более чем птичьего полета, когда темные подробности отступали и все слилось в сияющем единстве. Переживание описывается в «Розе мира», книга 5, глава 2; цитируется в моей книге «Страстная односторонность и бесстрастие духа», с. 284–285.
Это не весть из миров иных, это взгляд в глубину до бессмертия и вечности — здесь, теперь:
«Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо
И свет вовек бы не сошел с лица.
Когда б в какой-то уголок земли
Вгляделись мы до сущности Небесной,
То мертвые сумели бы воскреснуть,
А мы б совсем не умирать могли…»
З. МиркинаВестник — это поэт, музыкант, художник, сумевший доглядеть мир до Бога и передать средствами искусства свое знание Бога (а не только надежду на это знание). Вестник не устает в небе. Он чувствует себя там как дома. Другое дело — предвестник. Его взлеты — только проблески. Бессмертную картину проблеска нарисовал Тютчев: «эфирною струею по жилам небо протекло», и сразу затем — падение «в утомительные сны»…
«Мы в небе скоро устаем,
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем…»
Гении XIX века, названные Андреевым, — почти всегда только предвестники. А к вестникам (из тех, кого он называл) я бы отнес Рублева, Баха, с некоторыми оговорками Достоевского; и в XX веке — Тагора, Рильке, самого Андреева. Предвестники устают в небе или только тоскуют по нему и не умеют добраться; или кружатся у закрытой двери, подобно Кафке. В этом ряду я вижу и творчество Тарковского. Он сделал то, что мог, и оставил в наследство поставленную задачу. Не только перед художественными гениями и талантами, но перед каждым человеком. Ибо главное выходит за пределы искусства. Главное — не то, как высказать (многие духовные гении молчаливы или косноязычны), а само переживание, сама встреча со священным. У св. Силуана никакого мастерства не было, но он обошелся без мастерства, без искусства. И напротив: самое большое мастерство не заменяет встречи. Иногда оно прямо мешает ей: «Защита Лужина» — замечательный пример бегства от своей духовной задачи, прикрытой искусством игры в шахматы. От этой задачи нам, однако, никуда не уйти, если мы хотим сохраниться: каждый — как личность и Россия — как ветвь мирового духовного развития.