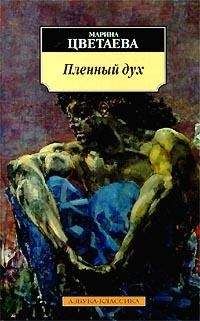Людмила Бояджиева - Марина Цветаева. Неправильная любовь
О том, звал ли в Москву Марину Сергей, неизвестно. Во всяком случае, вся их переписка шла через посольств во и, без сомнения, содержала лишь хорошо отредактированные сведения.
Почти нет сомнения и в том, что советские «представители» предложили ей вернуться: Цветаева являлась женой провалившегося агента и потому была нежелательна за границей. Советское постпредство ее «опекало». Приходилось жить по указке постпредства: восстанавливать советское гражданство, оформлять документы, получать визы; из советских рук переписываться с мужем… Мур оставил школу — отчасти это было связано с делом его отца и просоветскими высказываниями мальчика; он стал заниматься с учителем.
Цветаева начала готовиться к отъезду. Самое важное было разобрать и привести в порядок свои бумаги. Она знала, что многое из рукописей, писем, книг невозможно взять с собой; надо было решить, что, где и кому оставить. Цветаева просмотрела все свои рукописи, кое-что доработала, стихи, написанные после «После России», переписала в отдельную тетрадь; «Лебединый Стан» и «Перекоп» тоже. В старых тетрадях появились ее теперешние пометки: иногда она поправляла прежние стихи и делала к ним замечания. Она заново проживала свою жизнь. Работа растянулась на год. Одновременно Цветаева ликвидировала свое имущество: распродавала и раздаривала книги, мебель, утварь. В июле 1938 года они с Муром выехали из квартиры в Ванве, в которой прожили четыре года, конец лета провели на море в Див-сюр-мер (Dives-sur-Mer), осенью поселились в дешевом отеле в Париже — «хозяйство» им было уже не нужно.
Погруженная в свои дела и хлопоты, о событиях в мире Цветаева узнавала по радио и еще больше от Мура. Стихи не писались. Сентябрьские события 1938 года вывели Цветаеву из творческой немоты. Нападение гитлеровцев на Чехию вызвало негодование, и хлынула лавина антифашистских «Стихов к Чехии»:
О слезы на глазах!
Плачь гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть,
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить,
С волками площадей
Не надо мне не дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
В сущности, она прощалась с жизнью. А прощания с Парижем не было: «Здесь от меня не останется ни нитки». свои силы, она вдруг почувствовала себя слабой, неспособной справиться с обстоятельствами. Какой-то мелкой, бабски-суетливой, недоверчивой, бестолковой. И совершенно одинокой! Целыми днями она взвешивает «за» и «против» отъезда, разбивая в пух и прах преимущества обеих вариантов. Повторяла, как заклятье, шевеля бледными губами:
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?
Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
— Как и той меня.
Но ведь вся семья намерена твердо жить только в Союзе! А если такой вариант: Сергей с Алей там, а мать с сыном здесь? Какая будущность ждет мальчика в эмиграции? На какие средства существовать? В Москве живет любимая сестра Аська, там образовался «круг настоящих писателей, не обломков»… Откуда было знать Цветаевой, что Анастасия арестована, сослана и сестрам больше не суждено встретиться? Что никаких «писательских кругов» вне идеологического официоза Союза советских писателей в Москве давно нет. Есть изгои, жертвы и те, кто пытается хоть как-то подстроиться к режиму и выжить. А уж прочее, прочее… О прочем и в страшном сне присниться не могло.
Париж не был любим Цветаевой никогда, даже в дни увлечения Наполеоном, теперь он превратился в осиный улей жалящих, презренных людишек, унижавших жену чекиста, город неприятия, нищенства, оскорблений, город чужого богатства и преуспевания. Чертова ловушка, изломавшая хрупкое нутро ее мужа, отнявшая дочь, способность вдохновенно и регулярно работать. А Россия? «Дом, который срыт»? Не просто срыт, спален. Да и не пепелище там, а нечто инородное, зловещее — гибельная трясина. Друзья старались смягчить страхи Марины, цитировали звонкие Алины письма. Нет, Марина не заблуждалась. Одаренная высшим зрением, она яснее всех понимала, на что идет. Ее несовместимость с большевиками фатальна: «мерзость, которой я нигде не подчиняюсь, как вообще никакому организованному насилию». «Организованное насилие» — точная формула, выведенная аполитичной, плохо информированной литературной женщины. Поразительно безошибочная.
Итог однозначен: ехать. К чертям все раздумья — «выбора нет: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась». Так, оказывается, все просто.
Удивительный «стальной хребет» нравственности. А как же бесконечные увлечения, душераздирающие романы? — Условия игры в Поэта. Сценические обстоятельства, силой воображения переводимые в жизненные. Пожар души, рождающий творчество. Она умела генерировать в себе это напряжение всех чувств. А тут — только тревога. Какие увлечения, если Сергей в беде? Письма от него так гладки и однотипны: «живу в деревне», «сосны, домики, белки», «полное одиночество, как на островке», что сомнения нет: они писаны для человека в погонах, с неистребимой скукой перлюстрирующего чужие послания в надлежащем отделе известного учреждения.
Обдумав метафору «одинокого островка», Марина решает, что означает она полузаключение, возможно, арест. А уж если, к тому же, парижские «начальники» Сергея постепенно выпроваживают их с Муром в Москву, значит, дело серьезное.
В сентябре 1938 года Цветаева с сыном поселились в Париже в отеле «Иннова», под фамилией Эфрон. Но отъезд откладывался раз за разом на неопределенное время по необъяснимым причинам. Вот уж каторга — ежеминутно ждать телефонного звонка, сидя на чемоданах. Цветаева изобретательно противостояла пытке ожидания, заполняя время заботами: смущая закройщиков экстравагантностью требований, сшила в ателье пальто из толстой замши «покрепче», с надежным поясом и большими, «чтоб как сумки», карманами, раздала верным людям дорогие ей вещи. «Устроила икону Николая Угодника», с педантичной аккуратностью приводила в порядок рукописи, покупала подарки москвичам, паковала багаж. На нервной почве сделала перманент! Вместо привычной челки появились серенькие бараньи завитки, которые приходится зализывать и прикалывать «невидимками», Жуть, что такое. Теперь спасет только бритье наголо. Но не пугать же погранконтроль тюремным фризуром?
Мур маялся без дела, изредка помогая матери. Он рвался в Москву и злился, если Марина, то осторожно, то на последней грани озлобленности, высказывала опасения относительно перспектив жизни в Союзе: