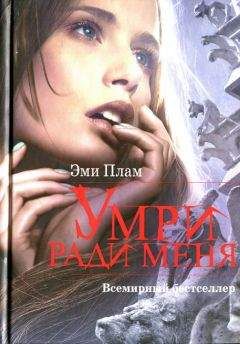Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
…все это предвещало много радостей, а в самом недалеком будущем — когда через пятнадцать уроков я научусь играть на мандолине, — может быть, даже славу…
Я горел от нетерпения поскорее начать ходить на уроки к учителю игры на мандолине и каждую свободную минуту садился посреди комнаты на стул, закладывал ногу за ногу и, сгорбившись над мандолиной, пытался извлечь из ее струн твердое, ровное тремоло.
Это казалось мне так просто!
Однако медиатор скользил у меня в пальцах, и его расширенный конец упруго гнулся, заставляя металлические струны издавать звуки громкие и совсем не музыкальные. Даже не звуки, а скорее нестройное звяканье.
Тетя зажимала уши мизинцами и запиралась у себя в комнате, Женька делал вид, что не обращает на меня ни малейшего внимания.
Затем я стал посещать учителя игры на мандолине — молодого человека в диагоналевых синих, очень узких брюках, в форменной тужурке почтово-телеграфного ведомства поверх русской косоворотки, с длинными белокурыми сальными волосами, заложенными за уши. От него пахло табаком, и большую часть урока он набивал гильзы Катыка легким золотистым табаком Асмолова и рассказывал мне, свои любовные приключения, почесывая ногтем мизинца угреватый нос.
Я оказался настолько не способен к игре на мандолине, что даже не выучился играть простую гамму.
Дело кончилось тем, что я постепенно перестал ходить на музыкальные уроки, а вместо этого одиноко шлялся с мандолиной под мышкой по городу, лишь бы только не идти к учителю в его аккуратную, но очень тесную комнату в полуподвале, набитую всякими дешевыми, никому не нужными базарными безделушками. Эту комнатку учитель игры на мандолине нанимал в квартире еврейского портного, где всегда стоял особый, устойчивый запах фаршированной рыбы, коленкора, детских пеленок и где вечно стояла подавляющая душу тишина, нарушаемая рубленым стуком маятника и нескончаемо длинными трелями канарейки.
Деньги же, которые мне давали для уплаты за уроки, я тратил на зельтерскую воду с зеленым сиропом «свежее сено» или «ром-ваниль», на рахат-лукум, баклаву и прочие восточные сладости, на приторно-сахарные, как бы лакированные рожкъ и копру кокосовых орехов…
Я чувствовал себя последним подлецом и, возвращаясь домой, осторожно клал мандолину на черный гардеробный шкаф в нашей комнате, где висел папин новый сюртук и наши новые форменные костюмы. В конце концов, я возненавидел мандолину, не оправдавшую моих надежд и превратившуюся в постоянную улику.
К счастью для меня, папа как-то рассеянно отнесся к моему охлаждению к музыке, махнул рукой и перестал давать полтинники на учителя.
…с тех пор мандолина несколько лет лежала на шкафу в сером байковом мешке, который сшила для нее тетя. Мандолина покрывалась пылью и напоминала о себе лишь тихими музыкальными аккордами, откликаясь на любой, самый легкий звук, доносившийся до нее и проникавший сквозь байковый мешок: стук входной двери, звонок, шаги по коридору, шум воды из уборной, цоканье лошадиных подков на улице, дребезжанье извозчичьей пролетки, певучий голос точильщика или паяльщика, как бы где-то вдалеке прошедшего военного оркестра, водянистый, удручающе грустный звон великопостного колокола, собачий лай, даже шорох мыши, катавшей кусочки сахара за буфетом, даже ночной шелест и потрескивание отклеивающихся обоев…
Странно, что никто, кроме меня, не замечал этих вздохов мандолины, доносившихся со шкафа как укоры совести. Эти вздохи вселяли в меня необъяснимый страх. Я боялся оставаться один в пустой квартире наедине с мандолиной, ловившей каждый мой вздох, следившей со шкафа за каждым моим шагом, как бы музыкально повторявшей все мои самые сокровенные мысли.
Иногда среди ночи я просыпался от прилива необъяснимой тоски, и тотчас на шкафу просыпалась мандолина, начиная еле слышно звенеть всеми своими струнами, сдвоенными, как железнодорожные рельсы. Меня начинала мучить бессонница. Подушка жгла щеку. Мандолина вкрадчивым звоном отзывалась на папин храп, на Женькино сладкое чмоканье и всхлипывание во сне.
Мандолина лежала на шкафу возле самой стены, я ее не мог видеть с кровати, даже если в комнату сквозь ставни пробивался лунный свет поздней осени, но все же я ее как бы ясно видел, лежащую в сером мешке на своем круто выдающемся затылке вверх плоским, срезанным лицом с открытым, мягко очерченным овалом рта, как у греческой трагической маски.
Но, главное, я как бы видел всю ее глубокую пустоту, где накапливались и резонировали самые разнообразные звуки не только нашей квартиры, нашей улицы, нашего города, нашей империи, но и всего земного шара, его прошлого, настоящего, будущего — зловещий, еле слышный струнный хор, хорал военных приготовлений, скопления военных частей, музыку парадов и свиданий монархов, церковных песнопений, колоколов, молебнов, потайной ход подводных лодок, гул чумы и надвигающейся войны, бой под Сморгонью, дуновение смерти, от которой не было спасения моей беззащитной, еще почти детской душе.
Мандолина истерзала меня тысячами ночных страхов, муками моего созревания, и я в конце концов, прижав ее к груди, как вор, на цыпочках вышел из квартиры, сбежал по лестнице, причем мандолина сопровождала каждый мой шаг укоризненными аккордами, отправился в город и, испытав множество унижений в разных магазинчиках и лавчонках старья, наконец продал мандолину за смехотворную цену — за восемьдесят копеек, из которых один двугривенный потом оказался фальшивым, грубо сделанным из олова местными неумелыми фальшивомонетчиками, ютящимися где-то в трущобах Молдаванки или в катакомбах.
Не помню уже, на какие нужды потратил я нечестно приобретенные деньги: может быть, даже проиграл их на чердаке дома Мирошниченко в двадцать одно Жорке Собецкому, а может быть, на что-нибудь другое.
Не знаю, не знаю, не помню…
Проклятая мандолина, обещавшая мне так много высокого восторга и ничего не давшая, кроме томительных музыкальных вздохов, пустых созвучий…
Перед пасхой
Все наши квартиранты имели различные странности и причуды.
Например, один из последних — кандидат на судебные должности — держал в клетке какую-то птицу, скворца или дрозда, уже теперь не помню. Кажется, скворца. Впрочем, может быть, и дрозда.
Он поселился у нас уже на Пироговской улице, когда мы переехали в новый кооперативный дом квартировладельцев.
Жилец поселился у нас в то время, когда я уже был на фронте в качестве вольноопределяющегося — артиллериста.
Перед пасхой я выпросился в двухнедельный отпуск и, не предупредив папу, желая сделать ему сюрприз, неожиданно прикатил с позиций под Сморгонью, где было тогда затишье, на побывку домой, в родной отчий дом.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)