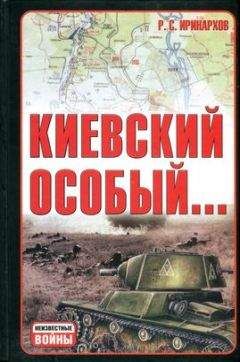Ян Веннер - Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет
Потом мы стали работать вместе. Они заполняли перерывы между нашими номерами в Max’s Kansas City; по-моему, мы выступали вместе восемь недель в CBGB. Это были поистине восхитительные вечера. Иногда я видела камеру с 8-миллиметровой пленкой и думала: «Боже, дай мне силы!» Потому что я была не очень хорошей певицей. Но я была смелая и могла импровизировать.
Чем для вас является песня «Piss Factory»[250] сейчас, спустя двадцать два года после того, как вы ее записали? Пусть даже вы написали ее как выражение вашего юношеского разочарования, текст ее все еще вызывает сильный резонанс в наши дни.
– Людям важно помнить, через какую муру им приходится проходить. Возможно, некоторым нравились годы их ранней юности, для меня же они были поистине трудными.
Но в этом нет негатива. Песня не о фабрике и не о работающих на ней людях. Это все мелкие персонажи. На самом деле она о человеческом духе. Я говорила, что в юном возрасте у меня было желание – желание хорошо жить. Пожалуй, некоторые из этих людей на фабрике утратили все желания. Я могу понять, как это могло случиться. Могла быть трудная жизнь. Но я знаю и то, что пока человек дышит, он в состоянии чувствовать себя живым. Вот о чем «Piss Factory» – о том, кто, умирая, почувствовал себя живым.
Когда я читаю этот текст сейчас, то безразлично, имею я либо не имею отношения ко всему сценарию, который разыгрался очень давно. Я все еще человек с желаниями, надеждами и мечтами. В этом смысле я не слишком изменилась.
Что они делали на этой фабрике, кроме того, что ссали (англ. Piss)?
– Детские коляски. Я проверяла ручки и гудки детских колясок. (Смеется.) Вы знаете про гудки на колясках? Я должна была гудеть в них, чтобы убедиться, что они действуют. Но меня все время понижали в должности. Вообще-то мне нравилась моя самая низкооплачиваемая работа – мне надо было проверять трубки, из которых делали ручки колясок, – потому что я могла взять мою книгу[251] «Одно лето в аду» с собой в подвал и читать.
Как долго вы продержались на фабрике?
– Я работала там только летом. Мне хотелось заработать деньги на колледж. Это была просто работа для школьницы.
Но стихотворение было написано с мыслью о себе, а ни о ком-то ином. Вот откуда такая энергия. Когда я писала это стихотворение, у меня не было сочувствия ни к кому больше. Я только что пережила все это, люди осмеивали меня, толкали и били.
Теперь я смотрю на этих людей с каким-то сочувствием. Могу себе представить, как сложилась их жизнь: возможно, кто-то развелся, остался с пятью детьми на руках и безо всякой перспективы. Но мне было шестнадцать лет, и я занималась собой.
Ваша новая книга о Роберте Мэплторпе «Коралловое море» – это почти мистическое повествование, написанное элегантной, романтической прозой в отличие от других ваших опубликованных работ.
– Потому что мои работы, написанные в 80-е годы, почти не публиковались. В 80-е годы я писала каждый день, и вообще-то я написала… не желаю называть их романами, скорее это были произведения в духе новелл. И данная работа из них вытекает. Однажды утром – я как раз проводила Джексона в школу, было около половины восьмого утра – зазвонил телефон. Я знала, что услышу. Это был брат Роберта; Роберт умер.
В то время я смотрела длинные сериалы о поэтах-романтиках, так что я с головой ушла в Шелли и Байрона. В то время, когда он мне позвонил, я как раз смотрела киноверсию оперы «Тоска», но по ее окончании я собиралась принять свою порцию романтизма. Я знала, что Роберт умирает; в ту ночь я дежурила. За те последние два года я наплакалась. И вот я сидела там, и вдруг почувствовала приток энергии. Почувствовала какие-то хаотичные приливы энергии. Я собралась с силами и стала писать. И писала без остановки. Каждое утро, проводив Джексона в школу, пока Фред спал, с марта по май[252] я работала над этим.
В книге описан молодой человек, М., отправляющийся в свое последнее путешествие перед смертью, но в ней не говорится ни об искусстве Мэплторпа, ни о его жизни как таковых.
– Да, все закодировано. Книга на самом деле не о Роберте, больном СПИДом, и не о том, как он боролся с болезнью. В ней закодировано его развитие как художника и все, что я знала о нем, о его детстве. Дядя в книге – это Сэм Уэгстафф[253].
Насколько тяжело после смерти Мэплторпа видеть, как его демонизируют консервативные политики и правые активисты, которые нападали на явную сексуальность некоторых его работ?
– Мне кажется, это было смехотворно. Если бы Роберт был жив, он счел бы это досадным. Но у него сердце разрывалось из-за того, что Джесси Хелмс[254] демонстрирует его фотографии детей – он прекрасно фотографировал детей, причем совершенно естественно, – как примеры детской порнографии. Он от этого плакал.
Роберт не любил разночтений. Он занимался своим делом не как политик. Он был чистый художник. Когда он фотографировал двух целующихся мужчин или то, как один мочится в рот другого, он пытался, как Жан Жене, дать портрет определенного аспекта человеческой жизни и сделать это благородно, элегантно. Я знаю, каким он был человеком.
Для него не было проблем, как назвать свою работу. Свое небольшое собрание фотографий S&M он хранил в портфеле, помеченном буквой «X». Он соглашался с людьми, которые говорили, что в фотогалерею с этими работами можно входить после восемнадцати лет. Это было не для всех – он это знал.
Вы часто употребляете слово «работа», говоря о своем искусстве. Для человека, которого характеризуют как поэта и певца богемы, у вас сильная, сфокусированная рабочая этика.
– Всегда была. Я действительно выработала высокую рабочую этику благодаря Роберту. У него была самая сильная рабочая этика, какую я когда-либо встречала. Практически до самого дня смерти, когда он уже был почти полностью парализован и наполовину ослеп, он еще пытался рисовать.
Люди думают: «Вы романтизируете всех этих слабых французских декадентов». Я никогда не романтизировала их образ жизни, их потери. Что мне действительно в них нравится, так это их работа. Если бы кто-нибудь прожил большую, романтичную жизнь, потворствуя своим желаниям, но оставил бы пустое искусство, меня бы это не заинтересовало.
А вообще вы не скучаете по тому времени, когда были звездой рок-н-ролла, хотя бы немного?
– По-настоящему я этим не прониклась. Да, во время нашего последнего турне по Европе[255] мы были ужасно популярны, и мне удалось вкусить славы, но я ощущала себя Элвисом Пресли всего месяц-другой.
Девизом Фреда дома – и это я вставила в «Gone Again» – было высказывание «Слава преходяща», которое он заимствовал у генерала Паттона, который заимствовал его у Александра Великого. И поэтому избавляться от всего этого очень интересно. Сначала немного унизительно и болезненно, но как только справишься с этим, ощущаешь свободу.