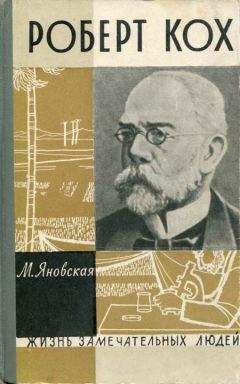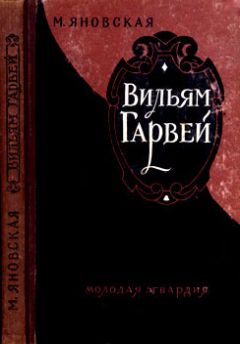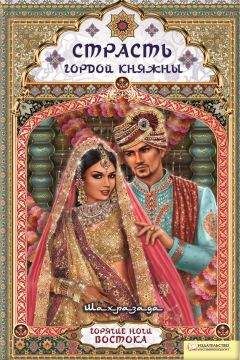Миньона Яновская - Сеченов
Аудитория была заполнена до отказа. Здесь были и студенты-медики со всех пяти курсов, и несколько профессоров, среди них Эрисманн и Склифосовский, и студенты других факультетов. Только начальство не удостоило Сеченова своим посещением, что он, охватив быстрым взглядом аудиторию, сразу же и отметил. Нельзя сказать, чтобы это обстоятельство огорчило его: волновался он менее всего оттого, что сюда могли прийти начальники; его интересовало, как отнесутся студенты к лекции и — такие грешные мысли уже не раз посещали его — не стал ли он с годами от старости читать хуже, чем прежде.
Встретили его громкими аплодисментами, которые он смущенно остановил движением руки.
Он начал по бумажке и первые несколько минут сильно волновался. Но благожелательность аудитории и тот контакт, который сразу установился между ним и слушателями, успокоили его. Он отложил бумажку в сторону, почувствовал себя в привычной обстановке и начал говорить спокойно, без запинок, со свойственной ему предельной простотой.
— По новому университетскому уставу, — говорил Сеченов, — профессор, выслуживший свой срок сохраняет за собою право преподавателя в университетах в качестве приват-доцента. Этим драгоценным правом я воспользовался, начальство соблаговолило допустить меня к чтению лекций, и я, как бывший воспитанник Московского университета, чувствую себя в самом деле очень счастливым, что имею, наконец, возможность послужить родному университету. Деятельность моя как приват-доцента должна заключаться в том, чтобы содействовать успехам преподавания физиологии, и этой цели я думаю достичь на первых порах чтением специальных курсов…
Затем он изложил программу курса «Физиологии чувствования» и приступил к самой лекции.
Слушали молча и напряженно. Слова Сеченова текли спокойно, как будто говорил он о вещах вполне обыденных, вполне понятных, вполне доступных каждому.
— Известно, что наша наука изучает собственно связь актов чувствования с их материальным субстратом, то есть с деятельностями органов чувствования, включая, однако, в круг исследования явления и в других органах, которые или сопровождают акты чувствования, или последуют за ними. Там, где чувствование не может быть приведено в связь с материальными основами, физиологическое исследование по необходимости обрывается…
Через месяц, когда эта первая лекция была подготовлена Сеченовым к печати, он понес читать ее… Тимирязеву. Ибо, как писал он Марии Александровне, «сошелся я прежде всего с Тимирязевым…». Первое впечатление было забыто, два великих человека сердечно сблизились, и знаменитый, старый ученый Сеченов с таким уважением и почтением относился к своему молодому коллеге Тимирязеву, что не хотел публиковать свои лекции, не услышав от него положительного отзыва.
Разумеется, кроме лекций, которые он писал по вечерам, и кроме чтения их студентам, Сеченов немедленно занялся подготовкой своих научных опытов. Каких? Ну, конечно же, он снова занялся газами! То, что так и не было достигнуто в Петербурге — общий закон отношения газов и соляных растворов, — он во что бы то ни стало решил довести до конца здесь, в Москве. А дело было нелегкое: во-первых, маленькая комната, в которой он был всего лишь гостем, во-вторых, недостаток средств и, наконец, недостаток оборудования. Его аппарат для качания газов за полтора года бездействия до того засорился. и заплесневел, что привести его в порядок стоило величайшего труда. Сеченов измучился, никуда не ходил, никого не видел и, только когда абсорбциометр был налажен, вспомнил, что в Москве живет еще много людей, которых он должен и хочет повидать. И прежде всего отправился к Леониде Яковлевне Владыкиной (урожденной Визар) — милой приятельнице студенческих лет. Затем побывал у Шумахеров и у Петра Петровича Боткина, от них узнал, что здоровье старого друга в таком состоянии, что он решил выходить в отставку. Ого, если уж Боткин уходит из академии, значит плохи его дела!
Иван Михайлович спешит написать ему ободряющее письмо, а у самого на душе нет никакой бодрости, и мысли о смерти впервые лезут в голову. Философствуя, он начинает рассуждать, что всему должен быть конец, что он достаточно пожил, и кое-что после себя оставит, и что такова судьба каждого человека: рождаться, создавать материальные или духовные ценности и уходить из жизни, оставляя «после себя, ну, хотя бы потомство.
Да, а потомства он после себя как раз и не оставляет. И снова возвращается к мысли, что надо бы удочерить какую-нибудь сиротку, тогда и Мария Александровна подольше будет жить в Москве.
«Не знаю… насколько твоя душа удовлетворяется хозяйскими делами, а меня лабораторные дела не удовлетворяют. Скучать мне некогда, — пишет он Марии Александровне, — но я постоянно чувствую какой-то пробел во внутренней жизни…»
И он рассказывает ей о бедной девочке, с которой случайно познакомился в одном пансионе и которую хорошо бы взять к себе.
«Когда приедешь, съездим посмотреть — бедняжка всегда там, ей некуда ходить…»
Он начинает посещать девочку в «качестве приятеля ее прадедушки» и довольно скоро при всей своей любви и доверчивости «ко всему молодому убеждается, что девочка вовсе не так мила и наивна, как это ему показалось сначала, что она отлично понимает свои выгоды и что в ее ласковости есть что-то фальшивое, лицемерное. Вдобавок ко всему обнаруживается масса родственников, а это Сеченова совсем уже не устраивает. И с огорчением он снова констатирует в письме к Марии Александровне, что и эту девочку «заполучить» не удается. «Приедешь в Москву — я буду совсем счастлив, а ты станешь скучать», — с горечью пишет он и думает, что хорошо бы привезти из Клипенино собаку, что ли, чтобы какое-нибудь живое существо было рядом в те восемь месяцев в году, когда он обречен на полное одиночество.
От этого одиночества он бежит по всякому, старается быть на людях, общается даже с теми, кто не так уж приятен ему. Раньше это не было ему свойственно, а теперь — теперь сказывается старость, и он ходит на званые обеды, вечера и даже похороны, лишь бы не сидеть одному-одинешеньку в своих «меблирашках».
Он даже стал позировать зятю Петра Петровича Боткина — художнику, вознамерившемуся писать с него портрет. Тут он однажды услышал, что Боткин хоть и действительно страдает тяжелой одышкой, но выходить из академии, оказывается, не намерен. И сразу у него легче стало на сердце.
И вдруг две смерти одна за другой потрясли его до глубины души: в ночь на 17 октября в Саратове скончался Чернышевский, а 12 декабря в Ментоне умер Боткин.
Такой давнишний, такой большой друг, такой добрый и жизнерадостный! Почти невозможно смириться с этой мыслью, но никуда от нее не денешься…