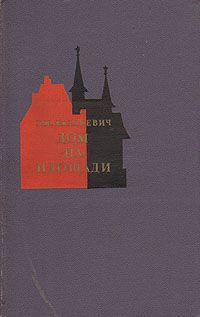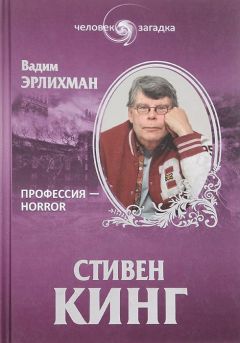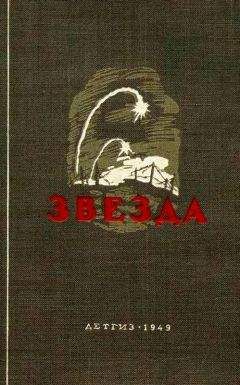Эммануил Казакевич - Дом на площади
Однако и утром поговорить не пришлось. Кто-то сообщил в комендатуру о появлении в городе очередной американской машины. Хотя на этот раз Коллинз велел шоферу не оставаться во дворе у Себастьяна, где жил комендант, и шофер заехал на другой двор, но и там его обнаружили, и ему пришлось повести комендантский патруль в особняк ландрата, где ночевал Коллинз.
На рассвете в дверь особняка позвонили, и Воробейцев, в тот день снова дежуривший по комендатуре, потребовал от американца немедленного выезда. Коллинз сначала заартачился, но Воробейцев сослался на категорический приказ. Коллинз, выругавшись по-английски и по-русски, вынужден был уступить. Он разбудил Вальтера. Вальтер ужасно рассердился и сказал отцу:
- Вот тебе твоя официальная должность! Ты не имеешь даже права принять у себя своего собственного сына.
- Собственного сына, который требует моего бегства с этой официальной должности, - язвительно ответил Себастьян, но тем не менее накинул пальто на пижаму и побежал к Лубенцову.
- Придется мне съехать от вас, - покачал головой Лубенцов. - Я слишком близко живу и в угоду вам вынужден пренебрегать приказами моих начальников. Американцы должны следовать по установленному маршруту - так договорились Жуков с Эйзенхауэром.
- Пожалуйста, отправьте американца, но моего сына...
На этом столковались. Воробейцев получил приказание оставить Вальтера в покое, а к демаркационной линии препроводить лишь американца. Однако Вальтер на это не согласился и уехал вместе с Коллинзом.
Этот американский майор Коллинз показался Воробейцеву прекрасным парнем. Воробейцев по его приглашению пересел к нему в машину, предоставив своей следовать позади. Коллинз болтал без умолку по-немецки, угощал Воробейцева джином, а напоследок пригласил к себе во Франкфурт, дал ему точный адрес и наобещал гору всяких удовольствий.
У них оказались общие знакомые. Когда Воробейцев рассказал ему, что знаком с некоторыми офицерами, бывшими во время Потсдамской конференции в охране американских делегатов, и назвал фамилию Уайта, Коллинз воскликнул:
- Фрэнк Уайт! Как же, я его хорошо знаю. Он тоже во Франкфурте, служит в Администрации, не в моем, а в другом отделе. Превосходный офицер... Очень хорошо отзывается о русских. Кстати, он русский язык знает неплохо.
- Да, - подтвердил Воробейцев. - Он самый. Фрэнк, да, да. - Он вдруг вспомнил "операцию" с кольцами и смущенно замолчал.
- Честнейший офицер, - продолжал восхищаться Уайтом Коллинз. По-моему, он уже даже не лейтенант, получил повышение. Как ваша фамилия? Я обязательно ему передам, что имел честь с вами познакомиться - правда, при таких неприятных обстоятельствах... Служба есть служба, разумеется.
Воробейцев, у которого не шла с ума история с кольцами, воздержался от сообщения своей фамилии и вообще пожалел о том, что вспомнил об Уайте. Он сказал, что Уайт фамилии его не знает, а знает только имя: Виктор.
Себастьян-младший всю дорогу молчал, не вмешиваясь в разговор и отвечая на обращения к нему Коллинза односложными "да" и "нет".
У шлагбаума демаркационной линии Коллинз выскочил из машины одновременно с Воробейцевым, долго тряс его руку и снова повторил приглашение.
- Приезжай обязательно, - сказал он, переходя на "ты". - Будешь доволен. Съездим денька на два в Париж. Ты не был в Париже? Напрасно. Слава этого города вполне заслуженна. Мы туда часто ездим - с разрешением и без разрешения.
На обратном пути Воробейцев думал об этом Коллинзе, снова испытав к нему и к Уайту, вообще ко всем американцам, легкое чувство зависти. Каждого из них лично он и в грош не ставил. Он даже относился к ним - к каждому из них в отдельности - с некоторым презрением, разделяя общее мнение многих советских офицеров, что американцы не вояки и что им легко было громить немцев тогда, когда немцы уже были обессилены. Он завидовал их расхристанности и представлял себе американскую оккупационную зону и всю Западную Европу широкой ареной для безграничного разгула сильных ощущений и сногсшибательных приключений - всего того, что было почти недостижимо в условиях советской зоны под наблюдением серьезных глаз советских начальников.
Да, у советских начальников были серьезные глаза, и все, что они делали, - они делали всерьез. Они всерьез хотели коренным образом изменить условия немецкой жизни, всерьез принимали решения разных международных конференций и свои обязательства, всерьез думали сделать немцев миролюбивыми. Будучи материалистами и не скрывая этого, они верили в идеи и идеалы, в которые ни капельки не верили американцы, хотя они всюду даже в выступлениях самых высоких официальных лиц - ссылались на господа бога, на провидение и на высшую справедливость.
В комендатуре Воробейцев застал обычное совещание - одно из тех совещаний, которые ему уже осточертели и которые составили разительный контраст с миром, только что промелькнувшим перед его глазами. Речь шла об укреплении государственных и семеноводческих хозяйств и вообще о проблеме семян для предстоящего весеннего сева; о центнерах картофеля, развитии местного табаководства и прочих таких предметах, до которых Воробейцеву не было ровно никакого дела. Он с удивлением смотрел на офицеров комендатуры, которые с серьезным видом разбирали эти вопросы.
XXIII
То, что Воробейцеву казалось таким будничным и пресным, остальных офицеров, и в особенности Лубенцова, трогало и волновало, захватывало до глубины души. Каждое новое проявление сознания и самоотверженности любого немецкого крестьянина и рабочего было для них праздником, каждая неудача огорчала их, как личное горе.
Однако Лубенцова в последнее время стало беспокоить странное состояние, не знакомое ему прежде. По вечерам, оставшись в одиночестве, он испытывал нечто вроде слуховых галлюцинаций. В его ушах беспрерывно звучала немецкая речь, он слышал разные голоса - женские, мужские и детские, молодые и стариковские. Среди них он иногда распознавал голоса знакомые, слышанные в течение дня и повторявшие быстро и внятно то, что говорилось днем. Этот бесконечный многоголосый разговор доводил его до зубовного скрежета. Он стал плохо спать. "Не схожу ли я с ума?" - думал он иногда, холодея от страха. Это было нервное переутомление, но он, никогда не знавший прежде никакой усталости, кроме физической, очень встревожился.
Свое состояние он скрывал от всех, даже от Воронина. Впрочем, проницательный Воронин вскоре заметил нездоровый вид подполковника и по вечерам стал приходить в комендантский домик, за что Лубенцов был ему благодарен. Воронин несколько раз пытался осторожно намекнуть Лубенцову на необходимость отдыха, но Лубенцов отмахивался от него, так как дел было много, да и не привык Лубенцов отдыхать.