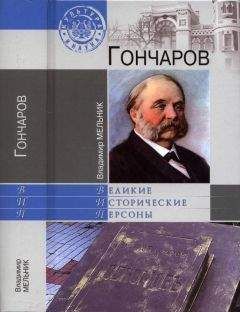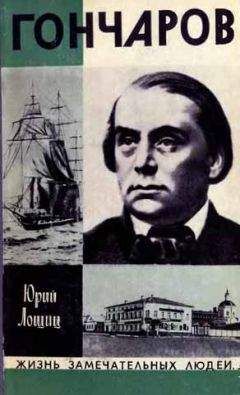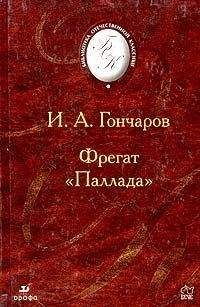Владимир Мельник - Гончаров и православие
— Что ж он проговорил?
— „Всякий, говорит, Еремей про себя разумей!“ Все и замолчали, так и из-за стола разошлись. Вот с тех пор во всем селе все, даже мужики, дьякона Никиту и прозвали Еремеем, а под сердитую руку и блудницей дразнили. А вы изволите говорить, что и вы тоже понимаете Покалипс… Хи-хи-хи!
— Апокалипсис! — поправил я. — Если дьякон не понимал, это еще не причина, чтобы я не понимал…
— Полноте, грех, сударь! — не на шутку сердился Валентин. — Дьякон или священник всю жизнь церковные книги читают — кому бы и понимать, как не священству? А вот никто не понимает. Один только святой схимник был: он в киевских пещерах спасался, тот понимал. Один! Все допытывались от него, и сам митрополит уговаривал, да никому не открывал. Перед кончиной его вся братия три дня на коленях молила открыть, а он не открыл, так и скончался. А вы — понимаете!»[371].
Гончаров невольно вспоминает свое плавание на фрегате «Паллада» и соединяет в нашем сознании оба примера: «Я тут убедился в том, что наблюдал и прежде: что простой русский человек не всегда любит понимать, что читает. Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славянском языке, ничего не понимая или понимая только „иные слова“, как мой Валентин. Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь по целым часам, глядя в рот чтецу, лишь бы он читал звонко и с чувством. Простые люди не любят простоты»[372].
Очерк «Антон» развивает другую тему: святые праздники Церкви и русское пьянство. В этом очерке писатель вспоминает святого равноапостольного Великого князя Владимира: «О ты, — вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале, — о ты, зелено вино! ты иго, горшее крепостного права: кто и когда изведет тебя, матушка Русь, из-под него? Князь Владимир Великий сказал: „Веселие Руси — есть нити!“ — и это слово стало тяжкою вечною заповедью для русского народа! Зачем он не прибавил: „пити, но не упиватися!“…»[373]. Придя на Святой неделе домой, Гончаров не застает своего слуги Антона:
«Я отворил к нему дверь и ахнул.
На столе догорала, вся оплывши, свеча, над нею, в близком расстоянии, висели на протянутой веревке полотенца, платки, какие-то тряпки.
Сам Антон лежал врастяжку на полу диагонально, навзничь, опять с открытым ртом, с закатившимися под лоб зрачками, без чувств.
— „Употребил“! не выдержал! — сказал я с тоской и злостью, потрогивая его за плечи, стараясь поднять его голову. Напрасный труд: он не шевелился, не подавал голоса, не открывал глаз. „Это называется праздник, Святая неделя! Святая! Вот уж, что называется, „святых вон выноси!“, — думал я злобно, даже, кажется, зубы сами невольно скрежетали у меня“»[374]. В сущности, за простой зарисовкой стоит тема большая, нежели пьянство. Соединение пьянства и Святой недели дает повод поставить вопрос о, так сказать, качестве, строгости христианской жизни русского человека из народа. По-своему очерк в своих выводах перекликается со словами Н. С. Лескова, широко поставившего вопрос о соотнесенности язычества и христианства в русской жизни: «Русь освятилась, но не просветилась христианством».
Очерк «Степан с семьей», в сущности, ставит ту же тему, но в несколько ином ракурсе: речь идет о том, что русский человек из народа часто более привержен внешнему обряду, нежели христианскому образу жизни. Жена Степана, Матрена, «была русская, набожная женщина — и заняла киотом со священными предметами не только весь передний угол своей комнаты, но отчасти даже мою гардеробную и комнату с ванной. Долго я слышал стукотню прибиваемых икон и картин религиозного содержания. Это меня несколько успокоивало насчет добропорядочности этой четы»[375]. Однако самая приверженность обряду иногда является лишь предлогом уклонения от жизненного долга: «К вечеру она явилась и, как показалось мне, тоже навеселе. Я уже о муже не спрашивал, где он.
— Где ты была, Матрена? Все разошлись: дом пустой! Как же это можно!
— Нынче Ильинская пятница: я на Пороховых заводах была! — обидчиво отозвалась она. — Нельзя же: все люди, как люди — я точно не человек! На мне, чай, крест есть!
Это случалось очень часто. То Родительская суббота придет, то Троицын, Духов или Успеньев день, то она на Смоленское кладбище пропадет на целый день. Великим постом особенно отсутствия эти были часты.
— Где была? — спросишь, бывало.
— На стоянии Марии Египетской, или ко кресту ходила: нонче Середокрестная неделя!
Отлучалась тоже и в Лазареву субботу, за вербами, и в Лазарево воскресенье, и ко всенощной с двенадцатью евангелиями и т. д.
Все эти праздники служили ей более предлогами к угождению „мамоне“, как я замечал, а не проявлением благочестия. Когда она приходила домой, от нее не святостью пахло»[376].
Тема внешнего благочестия, обрядоверия была постоянным предметом размышлений писателя. Об этом говорят и «Сон Обломова», и письмо к А. Ф. Кони от 1887 г.:
«Воистину воскресе Христос!
Дорогой Анатолий Федорович! Я сейчас получил Ваше милое приветствие — и не умею даже благодарить, т. е. силенки нет.
С белым Борей власами
с седою бородой
потрясает, к сожалению, не одними „небесами“,
но и нами всеми, особенно мной.
Он вчера буквально уничтожил меня, так что я „не со страхом и трепетом“, как следует доброму христианину, а со злобой раздражения против этого языческого Борея приступил к Св. Чаше.
И затем целый день все злобствовал… „Бог есть Дух… и должно поклоняться ему в духе и истине“. Давно сказал это И<исус> Х<ристос> самарянской жене, а с тех пор в этот самый день поклоняются Ему в куличе, пасхе, водке и проч. и называют еще день — Светлым… Не правда ли, я в этом письме похожу на какого-то заштатного попа, которого попросили отслужить и сказать проповедь, а он — не умеет?»
Чистка икон к праздникам у Матрены тоже вряд ли говорит об истинной вере и благочестивом образе жизни, ни даже о любви к чистоте внешней: «Последние три дня перед большими праздниками меня почти выгоняли вон. Начиналась возня, чистка, уборка, печенье куличей, крашенье яиц— и особенно чистка икон. Когда, бывало, зимой или осенью, заметишь паутину по углам или сор какой-нибудь и пыль на шкафах, вообще запущенность и неопрятность, и предложишь поубраться, всегда получишь в ответ: „Вот ужо к празднику (иногда месяца за три) станем образа чистить, уберем все, и паутину снимем, и пыль сотрем“.
Я заметил, что никто из моих слуг, ни один, никогда, по своему почину, без положительного и настойчивого моего приказания, не оботрет пыли, например, с мебели, с разных вещей. Пол еще выметут, а затем уже надо, что называется, носом ткнуть, чтоб русский слуга увидел беспорядок, пыль, и убрал»[377]. Так внешнее благочестие скрывает нехристианский, по сути, образ жизни.