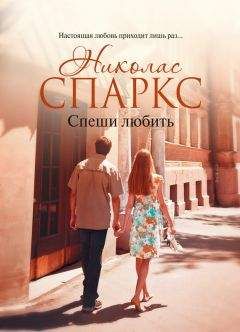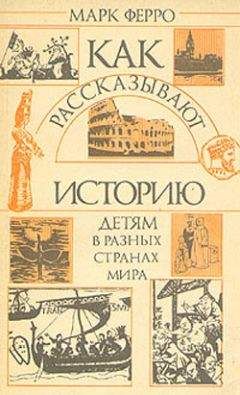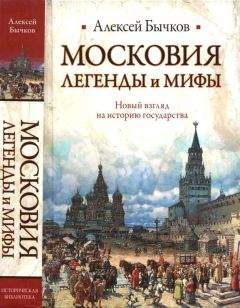Владимир Львов - Альберт Эйнштейн
Электромагнитное поле, открытое Фарадеем и Максвеллом, с одной стороны, и гравитационное поле, изученное Ньютоном и Эйнштейном, с другой, оставались оторванными друг от друга сущностями. Надо было их теперь связать, эти два качественно различных непрерывных аспекта бытия единой материи. Надо было построить единую теорию поля.
Еще в 1918 году первую попытку в этом направлении сделал цюрихский математик Германн Вейль. Вейль, заметим, в философских вопросах не раз скатывался к идеализму, и это заставляет вспомнить слова Ленина насчет тех профессоров, которые «способны давать самые ценные работы, в специальных областях химии, истории, физики», но которым, «нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии»! Попытка Вейля оказалась неудачной, но самый замысел работы заслуживал серьезного внимания. Предстояло показать, что не только масса тел, но и электрический заряд способен изменять, «искривлять» геометрию пространства. Если бы это удалось установить, тогда законы движения зарядов и магнитов — уравнения Максвелла — связались бы с законами структуры, пространства (и времени) на тех же основаниях, на каких закон тяготения планет и звезд был приведен в связь с кривизной пространства.
Другой — не менее важный — шаг должен был состоять в расшифровке диалектического единства между прерывностью и непрерывностью материи. Показать, почему, кроме непрерывных «полей», существуют и связанные с ними обособленные материальные тела, вскрыть сущность этой связи, вывести именно отсюда точные законы атомного мира (включая и статистические законы волновой механики), — такова была задача.
Реакционные шуты и гробокопатели науки немало поглумились над этой теоретической программой Эйнштейна.
Для идеологов копенгагенской школы это была ненавистная им «материалистическая метафизика». Для филистеров же из числа мнимых «друзей» материализма речь шла тут о непростительном, видите ль, «сведении» физики к геометрии, о «геометризации» физики… Люди, разжевывавшие глубокомысленно эту жвачку, прикидывались незнающими того, что делом жизни Эйнштейна являлось не выведение физики из геометрии, а, как раз наоборот, превращение «априорной» геометрии в отдел конкретной физики. Делом жизни Эйнштейна было включение геометрии, включение структуры Пространства — Времени как важнейших, коренных — по Марксу, Энгельсу, Ленину — форм бытия материи в теорию, отражающую физический мир[83]. Небесполезно напомнить в этой связи, что с программой великого синтеза, намеченной Эйнштейном, перекликается через столетия идея, вдохновенно провозглашенная другим гением, — одним из величайших гениев, когда-либо творивших в истории материалистического естествознания.
В «Слове о пользе химии» Ломоносов писал: «…Прекрасныя натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства и перемены… Таким образом, когда… любопытный и неусыпный натуры рачитель оныя чрез геометрию вымеривать, чрез механику развешивать и чрез оптику высматривать станет, то весьма вероятно, что он желаемых тайностей достигнет…»
Построение теории атома через связь геометрии, механики и оптики (электродинамики) — это и есть, по существу, программа единой теории поля Эйнштейна!
Продвижение по этому пути было начато еще в Берлине сразу после возвращения из поездок в дальние страны, но нечего было и думать, конечно, о быстром достижении заветной цели.
В вычислительной работе на этом первом этапе, кроме известных нам К. Ланчоша и В. Майера, помогал Эйнштейну талантливый математик, выходец из дореволюционной России Яков Громмер[84]. С именем Громмера связан первый из важных результатов — выведение, пока еще в предварительном и черновом наброске, законов движения прерывных тел непосредственно из уравнений непрерывного (гравитационного) поля. Это было сделано в 1927 году. Законы механики получались отныне не как посторонние по отношению к законам поля законы. Перемещение тел по кратчайшему пути в «искривленном» пространстве не задавалось более по произволу теоретиков, но органически вытекало из уравнений поля. Сами материальные тела разъяснялись тогда не как нечто чужеродное полю, а как особые области, как своего рода «узлы» или «бугры», входящие в структуру поля.
Это был лишь первый шаг к искомому диалектическому синтезу прерывности и непрерывности материи, и это не затрагивало пока еще проблемы электромагнетизма (и атомных частиц).
Атака была продолжена. Ее вели, с неослабеваемой энергией и сразу с нескольких сторон.
Советский теоретик Генрих Александрович Мандель, высокий молодой человек с неизменной черной шапочкой на макушке, тот самый, с которым мы встретились в одной из глав этой книги, с энтузиазмом включился в работу над единой теорией поля. Мандель пробыл в Берлине два года. Вернувшись на родину, он подвел итог своему сотрудничеству с Эйнштейном в докторской диссертации «К единой теории электромагнитного и гравитационного полей», защищенной в Ленинградском университете. Мандель скончался безвременно в годы Великой Отечественной войны, оставив ценное научное наследство, целиком связанное с делом жизни Эйнштейна.
Год 1929-й поставил новую веху на трудном пути: обнародованный в этом году мемуар Эйнштейна содержал первую развернутую формулировку уравнений единого поля. Волнение, охватившее научный мир в связи с этой публикацией, можно было сравнить с днями Принчипе и Собраля, с днями общей теории относительности. Собравшаяся 19 мая 1929 года в Харькове конференция советских физиков-теоретиков обсуждала результаты эйнштейновской новой работы. Результаты эти не могли быть признаны вполне удовлетворительными, и с этим выводом согласился вскоре сам Эйнштейн.
В 1933–1950 годах в Принстоне в работу Эйнштейна включился небольшой, но полный энтузиазма молодой коллектив.
Легенда об «идейной изоляции» и «одиночестве» ученого в вопросах единой теории поля — эта легенда варьируется сейчас на все лады пристрастными комментаторами — должна быть признана ложью. Ее изобрели те, кто выдавал желаемое за действительное, кто стремился изолировать Эйнштейна, запереть его в золотую клетку, те, кому мешал его могучий голос в науке и в общественной жизни.
Из уст людей, живших и работавших в Принстоне, можно было слышать рассказы о том, какими способами пытались помешать общению Эйнштейна с молодыми теоретиками, как искусственно сужались возможности для непосредственного формирования его научной школы. Когда Эйнштейн хотел изложить свои новые идеи перед слушателями, объявление о занятиях семинара вывешивалось, как нарочно, на самом незаметном месте, и притом без упоминания имени докладчика. Молодым людям, желавшим работать под руководством ученого или консультироваться с ним, ставились помехи — все это, разумеется, под предлогом сбережения его драгоценного времени и спокойствия! Примечательно, однако, что даже те, кто содействовал раздуванию этой лицемерной версии, не могли скрыть всей правды. «Никто не мог бы сказать, — пишет, например, Ф. Франк, — чем объяснялась эта изолированность Эйнштейна: решением ли других лиц или его собственной антипатией к интимному контакту с Людьми». Ученый, по уверению Франка, «колебался между чувством удовлетворенности своим одиночеством и страданием от изолированности». «Так или иначе, — заключает Франк, — присутствие Эйнштейна в Принстоне не было использовано так эффективно, как это могло быть…»