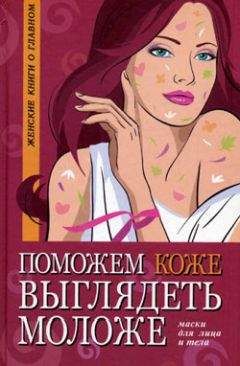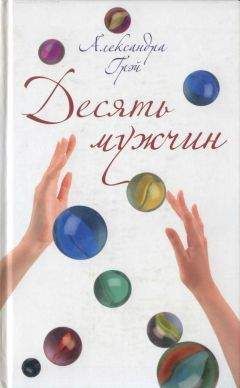Григорий Померанц - Записки гадкого утенка
Залп статей в № 125 был последним ударом, болезненно меня задевшим. «Наших плюралистов» я прочел глазами ученого. Там были хорошие примеры солженицынского стиля полемики и философские тезисы, прямо ложившиеся в мою почти законченную статью «Проблема Воланда» (о модели детерминизма и индетерминизма в истории). На оскорбления по адресу покойного друга и почти что умиравшей (сейчас уже покойной) Р. Б. Лерт я ответил, но ответил без напряжения. У меня, наконец, выработался иммунитет.
Реджинальд Орас Блайс, критикуя дзэнский текст XV века, как-то заметил: дзэн не про то, как выигрывать, а что все равно — выиграть или проиграть. Я это прочел и запомнил. А в 1971 году, после первого тура полемики, сам написал, что «добро не воюет и не побеждает»… Но прошло лет 10, прежде чем я эту свою же мысль до конца прожил. Я утвердился в незащищенности (другая мысль, которую я сразу приметил и очень медленно, всей жизнью постиг). Я понял, что Кришнамурти имел в виду, когда говорил о незащищенности. Я понял «залетную птицу» Тагора: «зло не может себе позволить роскошь быть побежденным; добро может».
Полемика не могла больше поколебать укорененности в тишине, найденной к началу 80-х. В «Страстной односторонности и бесстрастии духа» я взглянул на современные распри так, словно они шли тысячу лет назад, и поставил враждебные книги на одну полку.
Солженицын — один из самых замечательных примеров страстной односторонности; именно резкость его мысли, «неразвитая напряженность» принципов (как назвал бы это Гегель) делает его незаменимым застрельщиком спора (я согласен здесь с Дисой Хостед). И потому молю Бога о здоровье моего противника. В общем хозяйстве культуры и нетерпимые, резкие, как нож, формулировки имеют свое достоинство.
Комментарий — один из основных путей духа. Я осознал это в начале 70-х, разбирая причины упадка буддизма в средневековой Индии. Найти новый принцип чрезвычайно трудно — и опасно. Новый, революционный принцип может оказаться разрушительным. Поэтому надежнее комментировать тексты, выдержавшие испытание времени. Практическим выводом из моих размышлений было то, что я опять стал комментировать Достоевского.
Полемика с Солженицыным — еще один такой комментарий. Я не борюсь с Солженицыным на том поприще, которое стало для него главным. Идеи, способные овладевать массами и стать материальной силой, — не мои идеи. Мне хочется передать гадким утятам свой опыт — как выносить историю, а не командовать ею; и при любых зигзагах находить пути медленной помощи. Мне хочется оставить им в наследство стиль спора — без расчета на выигрыш. Он дорого мне дался, этот стиль. И вот я сажусь к столу, листаю рукопись и в сотый раз вставляю недостающее слово, а потом снова его вычеркиваю. Чтобы передать не частности, а целое; не хворост, а огонь; не идею, а ритм.
Глава 12
Корзина цветов нобелевскому лауреату
У Илюши Шмаина не хватило денег, и он забежал к нам занять несколько тогдашних десяток. Таким образом, мы оказались втянуты в демонстрацию солидарности с отщепенцем, которого клеймил весь советский народ.
Дом Житомирских, где жил Илюша, был одним из немногих интеллигентских гнезд, не разоренных при Сталине. Там стояли томики Роллана со статьями о Рамакришне и Вивекананде (от них Илюшу, в конце 40-х годов, потянуло к идеализму). Там я в апреле 1953 года, прямо из лагеря, увидел на столе стихи Мандельштама. А Пастернака все Житомирские боготворили: его стихи, его прозу, его поворот к христианству. Кажется, Машенька, на которой Илюша женился, уже была тогда крещена. Эта семья не могла не заявить о солидарности с поэтом. Но не оказалось денег, и Илюша забежал к нам (мы жили ближе других).
Заказав цветы, Илюша проследил, как посыльный пронес корзину через комсомольские пикеты, на квартиру поэта в Лаврушинском переулке, и вернулся к нам рассказать. За ним тоже проследили. Вечером, когда я вернулся из библиотеки и собрались друзья, в дверь постучали. Вошел паспортист из домоуправления; толстая тетка (сказала, улыбаясь: из избирательной комиссии) осталась в дверях: дальше ей трудно было протиснуться. В связи с предстоящими выборами проводится проверка паспортов. Почему, зачем? Выборы — по месту прописки, а прописан на Зачатьевском один я. Но все растерянно подчинились. Пробежал холодок испуга: с требования паспорта начинается обыск и арест.
Я люблю смотреть на выражения лиц в минуту опасности, люблю слушать об этом и запоминаю чужие рассказы. Например, рассказ Якова Марковича Слуцкого, бывшего секретаря редакции «Известий», добившегося назначения переводчиком в стрелковый полк (он не хотел видеть войну глазами корреспондента), — как кто вел себя, когда немецкие танки ближе и ближе подползали к командному пункту: дрожащие губы молодого ПНШ (помощника начальника штаба), очень не хотевшего умирать, мрачный взгляд старшего уполномоченного особого отдела, глядевшего на труса с пистолетом в руках… И сейчас, после корзины цветов поэту, лица моих друзей были такие, как будто на нас надвигались танки.
Леонид Ефимович Пинский мрачен, как туча. У Иры Муравьевой, рывшейся в сумочке, дрожали пальцы. Кажется, только Володя Муравьев совершенно равнодушно, через плечо, сунул свой паспорт. Володе было 19; он ни разу не пережил обыска.
Когда проверка кончилась, Женя Федоров сразу распрощался и выскочил на улицу, а мы продолжали обсуждать открытку Пастернаку. Илюша мог как-то, через знакомых, передать ее (сам он, помнится, ушел еще до проверки. Но все равно он обещал все сделать завтра). Ира написала, что мы любим стихи Бориса Пастернака и поздравляем с премией. «Надо было бы написать о романе, — сказала она. — Это ему было бы дороже. Но я не могу: роман мне не понравился». Мы прочли первые две части, и текст показался очень рыхлым. Помедлив немного, Ира ничего не прибавила и подписалась. За ней подписался я, Володя, Леонид Ефимович. Не знаю, как другие, но я подписывался с некоторым усилием. Хотя после Иры готов был подписать себе смертный приговор.
Задним числом все это меня ужасно возмутило. Я почувствовал себя униженным своим страхом. Так откликаться на травлю поэта — заведомо беспомощно. Если мы не можем не вылезать, то надо подумать, как действовать с каким-то планом и целью.
В эти годы я с упоением повторял стихи Пастернака:
Быть знаменитым некрасиво,
Не это подымает ввысь…
Стихи Пастернака вели прочь от подмостков истории, а дело Пастернака втягивало в нее назад. По силе впечатления кампания травли сравнивалась с событиями в Венгрии. Я вспомнил, как в 56-м чувство протеста было подавлено сознанием беспомощности, и все вылилось в звон рюмок. Кому-то стало противно пить венгерское; несколько ящиков отличного шерри-бренди тамошнего производства выбросили в общую торговую сеть. Мы покупали его и пили: за Венгрию, за Венгрию! И за стихи Мандельштама (они окрасили для меня весь конец 1956 года):