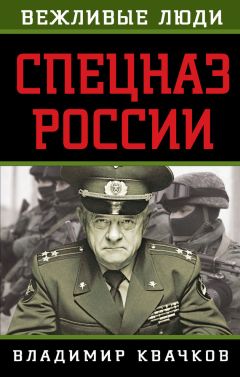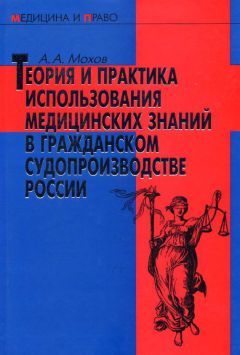Филипп-Поль де Сегюр - Поход в Россию. Записки адъютанта императора Наполеона I
Наполеон проходил по толпе своих офицеров, выстроившихся на его пути, и одарял их на прощанье печальной, вынужденной улыбкой; он увозил их безмолвные просьбы, которые выражались некоторыми почтительными жестами. Он и Коленкур затворились в крытой карете; его мамелюк Рустам и Вонсович, капитан его гвардии, заняли козлы; Дюрок и Лобо следовали за ним в санях[259].
Сначала его конвоировали поляки, потом неаполитанцы королевской гвардии. Этот отряд, когда он явился из Вильно к императору, насчитывал 600–700 человек. Он почти весь погиб за этот короткий переход: единственным врагом его была зима. В ту же самую ночь русские заняли и покинули Жупраны, или Ошмяны, — город, через который должен был пройти эскорт. На один бы только час раньше, и император столкнулся бы с ними.
В Медниках он встретил герцога Маре. Первыми его словами были:
— У меня больше нет армии. Я вот уже несколько дней иду среди толпы недисциплинированных людей, бродящих повсюду в поисках съестных припасов. Их еще можно было бы соединить, дав им хлеба, башмаки, одежду и оружие; но мое военное управление ничего не предусмотрело, а мои приказания совсем не исполнялись!
А когда герцог Маре указал ему на блестящее состояние бесчисленных складов в Вильно, он воскликнул:
— Вы возвращаете мне жизнь! Я поручаю вам отвезти Мюрату и Бертье приказ остановиться на неделю в этом городе, собрать там армию и придать ей силы продолжать отступление в менее плачевном виде.
Остальное путешествие Наполеона совершалось беспрепятственно. Он обогнул Вильно пригородами, проехал Вильховышки, где сменил свою карету на сани, остановился 10 декабря в Варшаве, чтобы потребовать у поляков отряд в 10 тысяч улан, дать им некоторые льготы и обещать им свое скорое возвращение во главе 300 тысяч человек. Оттуда, быстро проехав через Силезию, он снова увидел Дрезден и его короля, потом Ганау, Майенс и, наконец, Париж, куда он явился внезапно 19 декабря, через два дня после опубликования своего двадцать девятого бюллетеня[260].
От Малоярославца до Сморгони этот властитель Европы был уже только генерал умирающей и дезорганизованной армии. От Сморгони до Рейна это был неизвестный беглец, несшийся через неприятельскую землю. За Рейном он снова превратился в повелителя и завоевателя Европы: последний порыв благодетельного ветра еще надувал этот парус.
Однако в Сморгони генералы обрадовались его отъезду, ничуть не падая от этого духом, они всю надежду видели в этом отъезде. Армии оставалось только бежать, дорога была открыта, русская граница недалеко. Подошла помощь в 18 тысяч человек свежего войска; армия находилась в большом городе, где были огромные запасы, и Мюрат и Бертье, оставшись вдвоем, полагали, что они смогут направлять это бегство. Посереди этого страшного беспорядка нужен был колосс, чтобы стать центром всего, и этот колосс только что исчез. В огромной пустоте, оставленной им, Мюрат был едва заметен[261].
Тогда только прекрасно поняли, что великого человека некем заменить — потому ли, что его приближенные из гордости не могли склониться ни перед чьей другой волей, или потому, что, думая постоянно обо всем, предвидя все и распоряжаясь всем, Наполеон создал только хороших исполнителей, искусных лейтенантов, но не начальников.
В первую же ночь один генерал отказался повиноваться. Маршал, командовавший арьергардом, вернулся почти один на императорскую квартиру. Там еще находились 3 тысячи человек Старой и Молодой гвардии. Это была вся Великая армия, и от этого гигантского тела осталась только одна голова! Но при известии об отъезде Наполеона, испорченные привычкой повиноваться только завоевателю Европы, не поддерживаемые более честью служить ему и презирая всех других, эти ветераны поколебались, в свою очередь, и сами приняли участие в беспорядках. Большая часть армейских полковников, с четырьмя-пятью офицерами или солдатами вокруг своего орла, признавали только свои собственные приказы: всякий думал о собственном своем спасении. Были люди, которые сделали двести лье, не повернув назад головы. Это было всеобщее «спасайся, кто может!»
Впрочем, исчезновение императорами неспособность Мюрата не были единственными причинами такого беспорядка; главной виновницей была суровая зима, которая в это время стала очень лютой. Она все усугубляла; она, казалось, поставила всевозможные преграды между Вильно и армией.
До Молодечно и до 4 декабря, когда зима обрушилась на нас, дорога, хотя и трудная, отмечалась менее значительным количеством трупов, чем до Березины. Этим мы обязаны мужеству Нея и Мезона, удерживавшим неприятеля, более сносной тогда температуре, некоторым запасам, которые давала менее разоренная местность, и, наконец, тому, что при переправе через Березину уцелели наиболее крепкие люди.
Поддерживалось нечто вроде организации, введенной в этом беспорядке. Масса беглецов брела, разделившись на множество мелких групп в восемь — десять человек. У многих из этих шаек была еще лошадь, которая была нагружена жизненными запасами или сама должна была служить этим запасом. Ветошь, кое-какая посуда, походный ранец и палка составляли пожитки этих несчастных и их вооружение. У солдат не было больше ни оружия, ни мундира, ни желания сражаться с неприятелем, а лишь с голодом и холодом; но у них осталась твердость, постоянство, привычка к опасности и страданиям и всегда гибкий, изворотливый ум, умеющий извлечь всю возможную пользу из данного положения. Наконец, среди еще вооруженных солдат имело некоторое влияние одно насмешливое прозвище, которое они давали своим товарищам, принимающим участие в беспорядках.
Но после Молодечно и отъезда Наполеона, когда зима, удвоив свою жестокость[262], напала на каждого из нас, все эти мелкие группы, сплотившиеся для борьбы с бедствиями, распались: теперь борьба совершалась изолированно, лично каждым. Лучшие солдаты сами уже не уважали себя: ничто их не останавливало; никто ничего не видел, у несчастья не было ни надежды, ни сожаления; у отчаяния больше уже не было судей, не было и свидетелей: все были жертвами!
С этих пор не было больше братства по оружию, не было общества, не было никакой связи; невыносимые страдания притупили всех. Голод, мучительный голод довел этих несчастных до грубого инстинкта самосохранения — единственного сознательного чувства у самых свирепых животных, для которого они готовы пожертвовать всем; варварская природа, казалось, привила им свою жестокость. Как дикари, более сильные грабили более слабых, они сбегались к умирающим, часто не дожидаясь даже их последнего вздоха. Когда падала лошадь, вам могло показаться, что вокруг нее собралась голодная стая волков; они окружали ее, разрывали на куски, из-за которых спорили между собой, как лютые собаки!