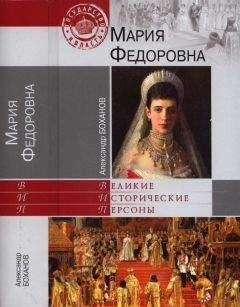Елена Первушина - Быть принцессой. Повседневная жизнь при русском дворе
Когда давался торжественный обед за маленьким столом на двенадцать приборов, говорил только один Папа. Он рассказывал о поездках или иных воспоминаниях, был весел, шутил или даже говорил двусмысленности. Когда он говорил о серьезных вещах, его речь захватывала, как это часто бывает у людей, которые живо воспринимают и действительно убеждены в том, что они говорят. После обеда он стоял у камина и разговаривал с генералами о военных делах: вспоминал Бородино, Лейпциг, вступление в Париж. Мама сидела в кругу прочих гостей. Там были очень оживленные разговоры, особенно если при этом был Серж Строганов, скрывавший под серьезной внешностью веселый темперамент и пользовавшийся большим расположением дам. По вечерам занимались музыкой или же смотрели любительские спектакли. Однажды даже давали «Севильского цирюльника», и все очень хорошо играли. Почин исходил по большей части от Мама и тети Елены или от бывших придворных дам, ставших москвичками, но сохранивших еще былую энергию и умевших занимать Папа.
Несмотря на мою светскую жизнь, я все еще оставалась ребенком, и сейчас еще вспоминаю те шалости, которые я придумывала тогда. Особенно запомнился мне один случай. Анна Алексеевна обещала своим племянницам привести их во дворец. Немного взволнованные предстоящим представлением великой княжны одного с ними возраста, они воображали себе этот визит очень торжественным. Адини и я сложили целую гору подушек. Задрапированные пестрыми платками и лентами из Торжка, обмотанными вокруг голов, мы сели по-турецки поверх подушек, вооружившись киями от бильярда вместо табачных трубок. Дверь отворилась – полнейший конфуз! Затем взрывы хохота, киданье подушками – так произошло знакомство. Но Анна Алексеевна была очень долго огорчена таким недостойным представлением.
Занятий в эти недели, кроме музыки и чтения, у нас не было. Вместе с Мэри мы читали вслух книгу мадам де Сталь о Германии. С Кости, который не только имел «Историю России», но и хорошо знал ее, мы посещали Оружейную палату, монастыри и музеи. Он был прекрасным чичероне и поражал всех своими меткими вопросами и замечаниями. При этом он также шалил: примерял сапоги Петра Великого, садился на трон Ивана Грозного и надел бы на себя и шапку Владимира Мономаха, если бы ему не помешал Литке. Мы присутствовали при облачении Макария Булгакова (1816–1883) известного знатока церковной истории, митрополита Московского, который был ректором Духовной академии в Петербурге. Филарет, который возлагал на него большие надежды, принимал участие в этой церемонии.
Адини не могла сопровождать нас: у нее болела нога, и ей пришлось пролежать все время нашего пребывания в Москве на шезлонге. Днем ее носили по нашей потайной лестнице наверх к Мама, и она принимала участие в разучивании духовных песен, – это выдумал Папа, с тех пор как узнал от Филарета, что Петр Великий пел в хоре. Наша часовня была как раз под комнатами Родителей, туалетная Мама даже сообщалась с хорами. Папа, Саша, Мэри и Адини, у которой было прекрасное сопрано, а также Анна Алексеевна и еще некоторые пели всю обедню. Алексей Львов сочинил для них песнопения, между ними «Отче наш» и чудесную «Херувимскую», специально для Адини. По воскресеньям, перед обедней, все собирались, чтобы прорепетировать, если нужно было петь новые песнопения к празднику, а главное, прокимен, который имел на все 52 недели года для каждого воскресенья свое собственное название и молитву. У Папа стало с тех пор привычкой узнавать прокимен для следующего воскресенья заранее. Его глаза встречались с нашими, когда пели очередной прокимен, и Саша потом в память этого делал то же, если присутствовал кто-либо из нас, певцов тогдашнего доброго времени.
При воспоминаниях о Москве я не могу забыть князя Сергея Михайловича Голицына, богатого холостяка, имевшего прекрасную картинную галерею и массу бедных родственников, заполнявших его дом доверху: сестер, племянниц, подруг этих племянниц, бывших слуг с их семьями, служившими часто по три поколения его семье. Его стол был всегда накрыт на 50 персон. Об этом существовал анекдот: тридцать лет подряд появлялся в обеденный час у него человек, исчезавший сейчас же после десерта. В один прекрасный день его место осталось незанятым. Куда он девался? Никто не мог ответить на это. Кто такой он был? И этого никто не мог сказать. Тогда стали узнавать, куда он делся, и выяснилось, что он умер ночью после своего последнего появления на обеде. Тогда только узнали его имя. Это очень показательно для беспечной патриархальной жизни прежней России. Императрица Екатерина гостила в этом дворе Голицыных в то время, когда перестраивался Кремль. Кресло, на котором она сидела, и письменный стол, за которым она писала, хранились особо и с большим почетом.
Прежде чем мы покинули Москву, у Мэри явилась блестящая мысль, чтобы мы, сестры, из собственных сбережений, по примеру наших предков, учредили какой-либо общественный фонд; начальные училища для девочек оказались необходимыми. Составился дамский комитет, пожертвования со стороны предпринимателей и купцов не заставили себя ждать, так что в течение только одного года открыли 12 школ в разных частях города; они назывались «Отечественные школы» и прекрасно работали.
7 декабря, после именин Папа, прекрасным зимним днем мы покинули Москву. Утром было только 5 градусов мороза, вечером, в Твери, уже 15, а на следующее утро 20 градусов. Люди смазывали лица гусином жиром, чтобы не отморозить нос и уши. Мы были плотно закутаны в шубы, в теплых валенках до колена и ноги в меховом мешке. Мэри, которой стало дурно от этого закутывания, должна была пересесть в другой возок, где опускались окна. Ее место в возке Мама заняла Анна Алексеевна; мы весь день напролет пели каноны и русские песни, музыкальный репертуар Анны Алексеевны был неисчерпаем.
На станциях крестьяне приносили нам красные яблоки и баранки. Анна Алексеевна разговаривала с ними, зная, благодаря своей долгой жизни в деревне, что их интересовало и заботило. Мама очень одобряла это ввиду того, что сама недостаточно хорошо говорила по-русски.
10 декабря мы прибыли в Петербург. 17 декабря был пожар в Зимнем дворце. Это случилось вечером. У нас была зажжена по обыкновению елка в Малом зале, где мы одаривали друг друга мелочами, купленными на наши карманные деньги. Родители были в театре, где давали «Бог и баядерка» с Тальони. В половине десятого, когда мы как раз собирались ложиться спать, Папа неожиданно появился у нас с каской на голове и с саблей, вынутой из ножен. «Одевайтесь скорей, вы едете в Аничков», – сказал он поспешно. В то же время взволнованный камер-лакей застучал в дверь и закричал: «Горит!.. Горит!..» Мы раздвинули портьеры и увидели, что как раз против нас клубы дыма и пламени вырываются из Петровского зала. В несколько минут мы оделись, и сани были поданы. Я еще побежала в мою классную, чтобы бросить прощальный взгляд на все, что мне было дорого. С собою я захватила фарфоровую собаку, которую спрятала в шубу, и бросилась на улицу. Там меня впихнули в сани вместе с маленькими братьями, и мы понеслись в Аничков. Нас устроили там наспех, где придется. О том, чтобы спать, не могло быть и речи. Между часом и двумя приехала Мама и рассказала, что есть надежда спасти флигель с покоями Их Величеств. Когда Мама приехала из театра, ей сказали, что мы в безопасности. Тогда она сейчас же прошла к несчастной Софи Кутузовой (дочь петербургского генерал-губернатора, которая была очень слаба после несчастного случая) и очень осторожно сказала ей, что ей придется переехать. Она оставалась при ней, пока та перенесла вызванный этой новостью нервный припадок, и не оставила ее, пока не приехал доктор. Только после этого она прошла к себе, где Папа уже распорядился всем. Книги и бумаги запаковывались, и старая камер-фрау Клюгель заботилась о том, чтобы не оставить бездедушек и драгоценностей. Отсюда Мама поехала к Нессельроде, где был приемный день и где весь петербургский свет столпился у окон, чтобы видеть пламя пожара.