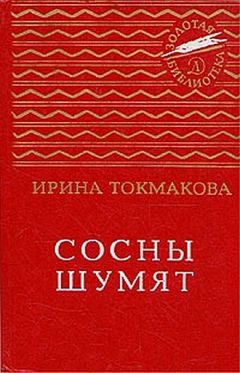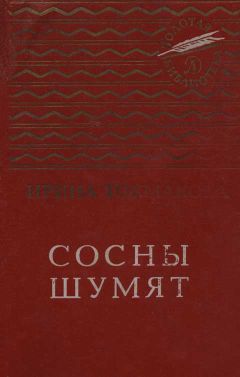Татьяна Егорова - Андрей Миронов и Я
– Нет безвыходных ситуаций! В конце концов, я сама поеду в Израиль и куплю точно такого же синего еврейчика!
Спасает Иосиф Райхельгауз, главреж театра, в котором играет Марья. Она замогильным голосом сообщает ему о постигшей ее утрате.
– Я вам своего отдам! – кричит Иосиф в трубку. – Мы же их вместе покупали!
– У вас не такой! – начинает капризничать Марья. – У вас прозаический, а у меня был романтический! – Но уже заблестели глазки, она вышла из статики, уже с нетерпением ждет прихода в свой дом нового еврейчика. Врубила телевизор – стала смотреть. Кузьма Федор Иванна по-пластунски проползла из ванной к вешалке и, одеваясь, спрашивает меня шепотом:
– Танечка, скажите, а в кого был характером Андрей? В Менакера? – с надеждой спрашивает она.
– Характером в Менакера, а поведением в мать, – говорю я.
Летом у себя в имении в 19 часов всегда включаю телевизор. Слушаю погоду – накрывать мне огурцы или не накрывать? И вдруг вижу на сцене Дома культуры Иванова два знакомых лица: выступают в концерте, видно, за большие деньги, Шармёр и Корнишон, или просто – Ширвиндт и Державин. Они зарабатывают тем, что рассказывают глупые, пошлые байки о покойниках – артистах театра Тусузове, Папанове и своем трагически погибшем «друге» Андрее Миронове. Ширвиндт смеется, и под подбородком у него трясется «вымя». Вот уж они не предполагали, что я их увижу за такой позорной и непристойной деятельностью.
Лето 1997 года. На даче у Марьи, в Пахре. Она – уходящая. Нервничает. Стучит ногами и кричит:
– Где вы будете жить, когда я умру? – А потом с воплем: – Таня! Из меня жизнь уходит!
У меня разрывается сердце, я не хочу с ней расставаться и предлагаю: давайте петь! Мы всегда поем, когда нам плохо.
Я начинаю, она подхватывает:
Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Кипучая, могучая, никем непобедимая,
Страна моя, Москва моя.
Ты самая любимая…
Настроение улучшается. Я варю курицу, а она смотрит «Санта-Барбару» и держит ручку на сердце. У Келли – выкидыш, она хорошо играет – орет, кричит, стонет, вокруг нее близкие. Марья нервно сосредоточивается и говорит мне:
– Таня, вы помните, что вы тогда говорили, когда хотели с Андрюшей завести ребенка?
Слезы подступают к моему горлу, и я отвечаю жестко:
– Я ничего не помню!
– Простите меня, – говорит она тихо, – простите, простите, простите, простите, простите, простите…
Это не дает ей покоя, она боится умереть с грехом. Я беру ее за руку, она ее крепко сжимает. Она понимает, что я давно ее простила. Мы сидим у телевизора вдвоем, взявшись за руки, и поем вместе с ведущим детской передачи: «Спят усталые игрушки, мишки спят, одеяла и подушки ждут ребят».
Последняя Пасха – апрель 1997 г. В половине двенадцатого ночи она с трудом встала, оделась, и мы пошли в близлежащую недавно открывшуюся церковь. Ей сразу поставили стул. Молодые парни, девушки, дети, горящие свечи, «Воистину Воскресе»! Она чувствовала, что следующей Пасхи для нее не будет… В глазах стояли слезы. «Господи, что стало с Россией? Какая бедная церковь!» – и ком в горле.
– Таня, – обращается ко мне с просьбой Марья. – Купите мне иконку – Воскресение Христово!
Веранда. Перед верандой – сад. Через два дня ей уезжать в Москву – открывается ее 71-й сезон в театре. Сидит на веранде и смотрит, если сказать вдаль – ничего не сказать. В галактику, в бесконечность. Ощущение, что она выпала из времени – это был ее истинный, ее настоящий монолог, о котором нельзя говорить, можно только молчать.
– Мария Владимировна, – спрашиваю я. – О чем вы думаете?
– А вам какое дело?
– Почему какое дело?
– По кочану! – А потом тихо: – Не надо сад вырубать… деревья… Ведь когда мы построились, здесь ничего не было. Все посадила я сама. Елки, березу, рябину, липу, сирень, жасмин, черемуху, яблони. Я тридцать ведер таскала под каждую яблоню – руки немели. Это были все прутики, а теперь, чтобы увидеть верхушки голубых елок, надо задрать голову, да как! А яблони такие высокие, такие старые – как я, ведь любят меня, стараются, плодоносят. Ждут каждую весну. В прошлом году треснула яблоня перед домом, и огромная ветка упала на крышу. Рану залечили, замазали, а в благодарность сколько принесла она яблок. А есть совсем сломанная, осталась ветка, я ее перебинтовала – и та родит, хоть три яблочка в год, а родит… Помнит добро, старается. Сойдет снег, расцветут примулы, земля покроется незабудками – сад будет меня ждать. В каждом дереве, в каждом кустике – моя душа. Ах, мои яблони, яблони, придет время, когда выйдет ваш срок – перестанете цвести и давать плоды, но пока будем стараться вместе прожить хоть еще одну весну, постараемся… хоть еще одну весну!
Мария Владимировна умерла 13 ноября 1997 года от болезни сердца. Уезжая в больницу, ключи она доверила мне. Мы с Машей, Марьей Андреевной, внучкой, пришли в Дом актера. Маргарита Эскина со свойственной ей деловитостью и энергией устраивала похороны.
Появилась Певунья. Маша подошла к ней и громко сказала:
– Я вас очень прошу, не подходите к гробу бабушки, вы ее предали. Ей было бы это неприятно.
Маша вышла характером в Марию Владимировну – та же бескомпромиссность, решимость и смелость.
Пройдет год, и эта тоненькая эффектная блондинка возьмет на себя дело переустройства памятника, потому что он сел, заплатит за это немыслимые деньги, «выбьет» звезду своему отцу – Андрею Миронову – на площади Звезд, вопреки тем же «друзьям», которые делали все, чтобы этой звезды не было. И теперь мы с ней будем ходить вдвоем под ручку на Ваганьковское кладбище, на могилу, где похоронены вместе Андрюша и Мария Владимировна.
На поминках было очень много людей. И каждый говорил, сколько она сделала добра – устраивала в больницы, выхлопатывала пенсии, устраивала путевки, устанавливала телефоны, давала деньги в долг… Ей писали: «Москва. Кремль. Мироновой» – просили, чтобы помогла шахтерам, учителям, колхозникам…
– У-у-у, народ, – говорила Мария Владимировна, – сами должны себе помогать, а то все держатся хвостом за ветку – не оторвать.
Наина Иосифовна приехала из Китая и уложила могилу красными розами. Друг.
Я осталась доживать на даче, теперь у Маши, до осени. Приехав после сорокового дня в дом, открыла дверь, вошла и выла так, что, думала, меня разорвет на части от рыданий. Открывала шкафы, засовывала туда голову и вдыхала уже улетающий запах – Андрюши, Марьи и всей моей прожитой с ними жизни.
«Господи, – думаю, – спасибо тебе, что ты дал мне сил довести до конца такую трудную и такую любимую мою Эпоху Владимировну».
В Новый год сижу одна на этой даче, в ее кресле и понимаю: окончился длинный, мучительный, но такой счастливый период моей жизни. Все!
Звонит Маша из Парижа:
– Танечка, – слышу я родной голос, – я звоню с Эйфелевой башни! Танечка, поздравляю вас с Новым годом!
А маленький Андрюша Миронов дарит мне рисунок на 8 Марта с надписью: «Тетье Танье от Ондрьея!»
13 мая в штормовой ветер, холод и дождь Наина Иосифовна, Маша и я идем на кладбище – полгода со дня смерти бабушки. Эту дату по правилам не отмечают, но мы скучаем! Мы хотим прийти к ним. И Наина Иосифовна опять укладывает всю могилу розами. Потом сидим в доме-музее, еще не открытом, Маша заказала яства из Дома актера, пьем водку и поминаем, вспоминаем. Наина Иосифовна для такого случая испекла торт, который мы в шутку называем президентским.
Наступила осень. Конец сентября. Я переехала с дачи в свою квартиру. Вернулась сюда на один день, чтобы с тряпкой и метлой навести чистоту и порядок. Все кончено. Я запираю двери. Иду в сарай, в последний раз посмотреть на наши лыжи…
– Ну что ж, Андрюша, я написала семь пьес, семь наших детей, о которых мы мечтали, и все они Андреевичи и Андреевны.
Иду по дороге к соседке попрощаться и думаю: вот что значат слова Андрюши: «Я этот спектакль посвящаю тебе!» Он ушел из жизни и вывел меня из этого ада – театра. И иду я теперь по дороге свободная от завистей и сведения счетов, здоровая, сильная, улыбающаяся, счастливая оттого, что извела все свои пороки, выполнила свой долг, и оттого, что Господь послал мне столько глубоких переживаний в жизни. Вот для чего был тот спектакль – он поменял мне Чашу, он меня спас, потому что истинная любовь – поднять другого духовно выше, даже ценой жизни.
Передо мной калитка. Открываю. Меня встречает соседка – красивая молодая Вера, по кличке Веритас (истина). Дача ее стоит на высоком обрыве, над рекой Десной. Время около пяти часов. Светит теплое сентябрьское солнце. Природа переходит ото дня к вечеру, я перехожу от одной главы жизни к другой. Сквозь ветки деревьев виднеется мост, на котором мы танцевали с Андрюшей, мост – тоже переход с одного берега на другой.
Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал…
Поднимаюсь на открытую веранду, смотрю вдаль.