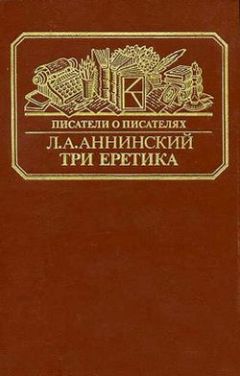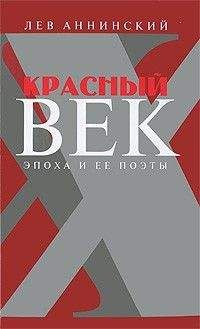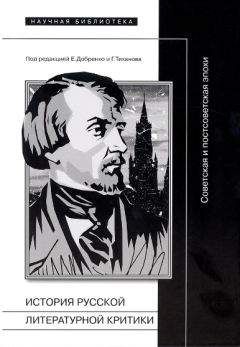Лев Аннинский - Три еретика
Еретики, наконец, – это хлысты в глазах самого Мельникова-Печерского.
Последнее обстоятельство побуждает меня к некоторым размышлениям чисто психологического толка. Павел Иванович Мельников – человек, по складу характера отнюдь не склонный ни к ересям, ни к гонениям на ереси, но он всю жизнь поневоле играет то ту, то эту роль. Еретик от вольномыслия, с позором изгнанный, как сказал бы Щедрин, из либерального Эдема, он искореняет еретиков от православия. И вот он пишет: хлыстовство хуже, чем ересь, – это карикатура на христианство. Градации негодования, в которое впадает художник, от природы широкий и терпимый, позволяют выделить в его мироощущении, так сказать, систему узких взглядов: конфессионально-государственную концепцию П.И.Мельникова, находящуюся в достаточно сложном соотношении с художественным миром Андрея Печерского.
Концепция П.И.Мельникова – это концепция российского консерватора и православного ортодокса, с некоторым умеренным оттенком славянского почвенничества. Это мечта о прочном, устойчивом, едином, чисто русском мире, без лихоумных немцев, коварных греков и хитрых татар, о мире, который стоял бы «сам собой», помимо внешнего принуждения, держась органичной верой, преданием, традицией и порядком. Мечтая о «строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, ни доморощенным тупым суеверием», Мельников четко градуирует степени порчи: хлыстов он изгоняет вообще за пределы истины, тогда как староверов склонен привести к примирению с ней, при условии, что и староверы, и их ортодоксальные противники откажутся от крайностей и изуверств.
Нетрудно представить себе, какую реакцию должна вызвать такая мироконцепция у передовых людей семидесятых годов XIX века, плохо верящих в примирение народа с существующим строем и еще менее – в организаторские потенции русской церкви. Настоящие же консерваторы, поющие народу осанну совсем в других видах, должны с неудовольствием почувствовать в эпопее Печерского смутную тревогу, бьющую из-под авторского «государственного оптимизма», ибо оптимизм этот, в сущности, выстроен на «чарусах», «вадьях» и «окнах», посреди лесных непролазных дебрей.
Но подождем забегать вперед: помимо узкой авторской концепции, здесь есть ведь еще весь гигантский объем художественной истины. И есть чудо искусства. Парадокс: именно Мельникову, гибкому чиновнику, «бесстрастному функционеру», «карателю поневоле», удалось то, что не удалось ни прямодушному и упрямому Писемскому, ни задиристому и упрямому Лескову: эпопея русской национальной жизни, глубинный, «подпочвенный», «вечный» горизонт ее, над которыми выстраиваются великие исторические эпопеи Толстого, Герцена и Достоевского. Для вышеописанной задачи, как видно, нужно еще кое-что, помимо упрямства и последовательности, может быть, как раз нужны широта и известная непоследовательность. И нужны, помимо уникальных этнографических знаний и умелого реалистического пера, еще и особый душевный склад, соответствующий задаче, и удивительная способность: совмещать несовместимое, оборачивать смыслы, сохранять равновесие. То, что брезжится Толстому в полувыдуманной фигуре Платона Каратаева, осуществлено в эпопее Мельникова в образе некоей всеобщей национальной преджизни, спокойно поглощающей очередные теории и обращающей на прочность очередные безумства исторического бытия. Если уж определять, что такое «русская загадка» по Мельникову-Печерскому, то загадка эта – сам факт природной русской живучести, невозмутимо сносящей свое «безумие». Эдакий родимый зверь с пушистым хвостом, – то, что Аполлон Григорьев силился когда-то извлечь из Писемского. В ту пору Мельников еще только подбирался к «зверю». Он в ту пору еще, так сказать, доносы писал в свое министерство да обличительные рассказы, которые Писемский, как известно, считал теми же доносами. Никому бы и в голову не пришло, да и самому Мельникову, – что же такое, в сущности, начинал он писать в форме своих служебных доносов.
Эпизод из творческой истории романа: прототип Патапа Чапурина – купец Петр Бугров, старовер Рогожского толка, крестьянин Семеновского уезда, заволжский богатей, с которым П.И.Мельников общался в пору «налета» на дом книготорговца Головастикова и который, кстати, пытался подкупом и лестью отвести от скитов грозу: умилостивить грозного «зорителя». В служебных донесениях Мельникова есть подробная и выразительная характеристика Бугрова как одного из «коноводов» раскола. И что же? Не просто черты и черточки из «Отчета» 1853 года, но целые эпизоды переходят через двадцать лет в роман. Изумительно здесь, конечно, не то, что полицейский чиновник, обладающий литературным талантом, составляет свои отчеты со впечатляющей силой, и не то, что писатель, занимавшийся полицейским сыском, использует свой давний опыт. Изумительно сосуществование этих пластов в душе. Изумителен сам оборот жанра: донос, направленный на изобличение старообрядства, написан так, что при изменившихся обстоятельствах ложится в фундамент романа, который становится памятником старообрядству. И никакого «слома» концепции, никакого «поворота», никакой «смены» позиции…
То есть поворот-то у Мельникова происходит, но это скорее поворот ситуации, чем изменение его индивидуальной линии; наиболее же интересное – вовсе не «поворот линии», а именно этот вот «оборот жанра»: сам тип духовной ориентации, при которой оборотничество души, привыкшей к поворотам, оказывается в порядке вещей. И – ее живучесть, ее непредсказуемость, и сам тип мироотношения, при котором возможно быть не вполне «честным», но вполне «святым», возможно превратиться из «гонителя» и «зорителя» скитов в их летописца и спасителя для вечности. А возможно все это – от глубинных качеств самой духовной реальности, внутренняя лукавая живучесть которой равна ее внешней притворной неповоротливости, а непредсказуемая твердость спорит с непредсказуемой шатостью.
В финале своей гигантской эпопеи, развязывая последние сюжетные узелки (впрочем, кое-где завязывая и бантики), А.Печерский выводит фигуру столичного чиновника, приезжающего в заволжские леса закрывать скиты. Загадочное благодушие, с каким описан этот не лишенный симпатичности чиновник, пробуждает во мне многие сложные мысли, но еще больше мыслей навевает то каменное спокойствие, с каким мать Манефа и ее дочь мать Филагрия наблюдают снос обителей, простоявших две сотни лет.
С такою же невозмутимостью Печерский сообщает нам, что, загодя предупрежденные о разгроме, матери успели построиться в другом месте и там схороня концы, конечно же, возродят свои потайные молельни. Интонация, с которой сообщает это нам в финале своей эпопеи Андрей Печерский, – смесь «гомеровского» величавого спокойствия и загадочной, родной гоголевской ухмылки.