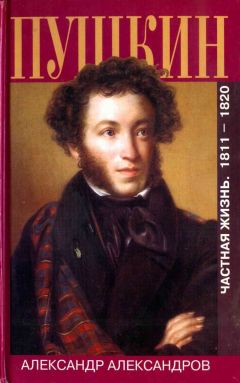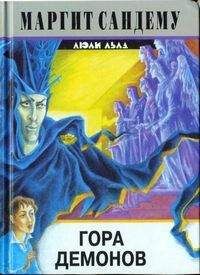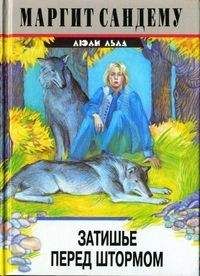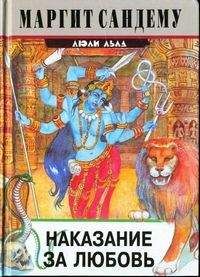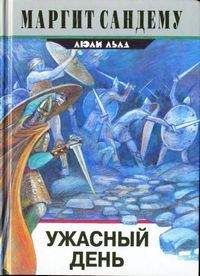Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
Иван Петрович вздрогнул при последних словах, и граф, заметив это, улыбнулся:
— Вас запоры, случаем, не мучают? Нет? Все мы в конечном счете только люди… Ну так вернемся к Пушкину… Я не только воспитывался с ним в течение шести лет в Лицее, но и жил потом, еще лет пять, под одной крышею, каждый при своих родителях, поэтому знал его так коротко, как мало кто другой, хотя связь наша никогда не переходила за обыкновенную приятельскую… — Он остановился, чтобы перевести дух. Вздохнув, продолжил:
— Смею вас заверить, что в Лицее Пушкин решительно ничему не учился! Мы все решительно ничему не учились, многим потом пришлось брать уроки, чтобы хоть чего-нибудь достигнуть, а многие так и остались до седых волос теми же детьми-лицеистами, хотя и состарившимися, и без зубов. Но Пушкин уже и тогда блистал своим дивным талантом, да к тому же многих начальников пугали его злой язык и едкие эпиграммы, и на его эпикурейскую жизнь смотрели сквозь пальцы, а по окончании курса выпустили его в Министерство иностранных дел коллежским секретарем с жалованьем семьсот рублей, разумеется, ассигнациями. Чин этот, десятого класса, остался при нем до самой могилы.
— Позвольте мне заметить вам, ваше сиятельство, что в самом конце 1831-го или в самом начале 1832 года он был произведен в титулярные советники, — сказал Иван Петрович.
— А-а, невелика разница! — отмахнулся граф с пренебрежением и, затянувшись, погрузился в удовольствие.
А Иван Петрович подумал, что для графа Корфа, получившего за свою долгую и безупречную службу все российские ордена и титул графа при выходе в отставку, конечно, разница между девятым и десятым классом не имела значения. Как, впрочем, и для самого Пушкина тоже.
— Такие люди не служили, а лишь числились по ведомству, порой не имея даже жалованья и без всяких надежд на чины, — добавил граф. — Но вернемся к лицейским годам: между товарищами — кроме тех, которые, писав сами стихи, искали его одобрения и протекции, — он не пользовался особенною приязнью.
— Да какую ж протекцию мог составить лицеист Пушкин? — удивился Иван Петрович.
Граф Корф усмехнулся:
— Протекции бывают разного рода. Вы знаете, например, что из всех лицеистов один лишь Пушкин принадлежал к литераторской среде, а она также имеет свой круг, свои нравы, связи, наконец. Именно она, эта среда, создает репутации, кого-то пестует, кого-то затирает. Олосенька Илличевский постоянно вздыхал о том, как повезло Французу, что он с рождения знает всех поэтов. Кстати о прозвище: в Лицее, где каждый имел свой собрикет, это прозвание Пушкина — Француз было весьма нелестно, особенно если вспомнить, что он получил его в эпоху «нашествия галлов»! Когда мы все галлов ненавидели. Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в свои мечтания, с необузданными африканскими страстями, избалованный с детства похвалою и льстецами, которые есть в каждом кругу и в каждом возрасте, Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете, не имел ничего любезного и привлекательного в обращении.
Беседы — ровной, систематической, сколько-нибудь связной — у него не было, как не было и дара слова, были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, иногда в добрую минуту, большею же частью или тривиальные общие места, или рассеянное молчание, прерываемое иногда, при умном слове другого, диким смехом, чем-то вроде лошадиного ржания.
Граф Корф вдруг заржал, но тут же сам покачал головой:
— Нет, не то! Хотел изобразить, но я же не Миша Яковлев, тот был мастак. Знаете, наверное, был у нас паяс?
Иван Петрович молча кивнул.
— Вот в чем Пушкин действительно превосходил всех в Лицее, так это в чувственности! — слегка наклонившись к нему и выпучив глаза, сказал граф. — А после, в свете, он вообще предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий…
— Неужели он был до такой степени порочен? — недоверчиво спросил Иван Петрович.
— К сожалению, да… — печально сказал граф Корф и, глубоко-глубоко затянувшись кальяном, впал в некое подобие сна наяву, закатив глаза, но тут же встрепенулся: — Должно только удивляться, как здоровье и самый талант его выдержали такой образ жизни, с которым естественно сопрягались частые любовные болезни, низводившие его на край могилы.
Иван Петрович встречался потом с князем Петром Андреевичем Вяземским. Тот сказал проще:
— Пушкин не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы.
Но, как давно заметил Иван Петрович, близкие друзья Пушкина старались вообще не говорить о личной жизни Пушкина. Все, с кем он кутил, с кем отправлялся в непотребные дома, слонялся по трактирам (а князь Вяземский, несмотря на то что был женат, был одним из его спутников по домам разврата), не оставили никаких воспоминаний, — видно, ложь им претила, а правду говорить не хотелось, ибо тогда эту правду надо было говорить и про себя, а у каждого была супруга, дети. Кроме Вяземского промолчал и Соболевский, очень близкий его приятель, лишь Нащокин в содружестве с женой ханжески чего-то накуликал издателю «Русского архива» Петру Бартеневу. Но жена Нащокина знала только женатого Пушкина, в последние годы его жизни, а про юношеские оргии, происходившие у него в доме, Нащокин, разумеется, помалкивал. К чему знать об этом жене!
Впрочем, князь Петр Андреевич добавил тогда, что у Пушкина в любви преобладала не чувственность, а скорее поэтическое увлечение. По мнению князя Вяземского, Корфу, который поэтом не был, понять это было невозможно, хотя его наблюдениям со стороны нельзя было отказать в остроте взгляда. Потом, когда Ивану Петровичу удалось свести их вместе, вернее, когда случай помог ему их вместе понаблюдать на курорте в Гомбурге, он увидел, что их оценки Пушкина не так уж и различаются, просто Корф был резче, откровеннее, — ему самому нечего было скрывать, себя он чувствовал абсолютно чистым, и, видимо, так и было.
Граф Корф вполне мог и знать одну историю, происшедшую с Пушкиным и Вяземским после посещения непотребного дома в Петербурге в 1829 году. Заехали они, как всегда, к Софье Астафьевне, о которой в то время знали все, и провели в ее заведении разгульную ночь, о чем из донесений тайных агентов стало известно самому императору Николаю. Для Пушкина, как для человека холостого, это не имело последствий, а вот женатый князь Вяземский, вернувшийся в Москву, был вызван к генерал-губернатору, и ему было сделано внушение, что ежели он будет и далее развратничать и вовлекать в это дело молодежь, то к нему будут приняты меры. Вяземский, как истинный либералист, вознегодовал тогда, что вошли в его частную жизнь, и грозился даже уехать, да, видно, побоялся, что имение его будет секвестровано, то есть отобрано в казну, властями.