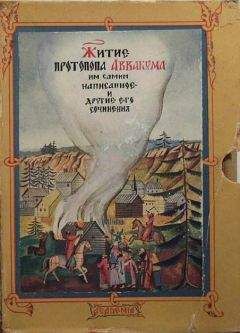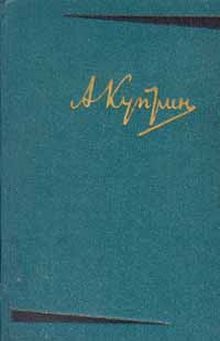Василий Маклаков - Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917
Не говорю о партиях до введения конституции. Тогда могли существовать только подпольные, нелегальные партии; их лидеры обыкновенно в России и не жили. Своих членов они не ставили на избрание населения. У них были другие «средства борьбы», а не избирательный бюллетень: забастовки, бойкот, обструкция, даже террор. Подобные партии по свойствам своей деятельности требовали центрального руководительства, конспирации, железной дисциплины и т. п. От этого их сила зависела.
Уже Освободительное Движение стало несколько иначе ставить этот вопрос. Тогда еще не было выборов, но открытая идейная борьба стала возможна. Она создала Союз освобождения. Понятие «союз» противополагалось «партиям» именно потому, что «союз» считался временным соглашением тех, кто раньше шли различной дорогой и могли потом опять разойтись. Он поэтому допускал различие не только мнений, но даже целей. Не надо смущаться, что в июне 1905 года в «Освобождении», в странной статье под заглавием «Рождается нация», рекомендовалось создание единственной «конституционно-демократической партии», как выражения мнения «всей нации» для момента, когда «нация» из «объекта» управления превратится в «субъект».
Это отголосок тогдашней иллюзии, будто все «мы» между собой согласны, что нации противостоит только узурпаторская самодержавная власть и что Учредительное собрание и всякое правильное представительство непременно выражает «общую волю». Если среди представительства и окажутся несогласные, то они так немногочисленны и не авторитетны, что можно с ними совсем не считаться. Эта иллюзия как бы предвосхищала идеологию будущей единственной партии. Но во всяком случае, для конституционно-демократической партии это суждение было бы ни на чем не основано. Такой роли, выразителя мнения всей нации, ей играть не пришлось. Задуманная еще до «нового строя», она появилась на свет, когда этот строй уже был возвещен и когда перед партией стали другие задачи.
После введения конституции, а вместе с нею и организации «выборов», сила политических партий в России, как и повсюду, стала измеряться доверием, которое они населению, то есть прежде всего «беспартийным», внушали: среди избирателей беспартийные всегда в большинстве. Приобретать сторонников среди них, их убеждать в своей правоте, этим влиять на выборы становилось главным назначением «партий». Об этом стали думать и создатели русской конституционно-демократической партии. Это время я помню, так как тогда довольно неожиданно для себя самого я к ее созданию приобщился.
Партия задумывалась помимо меня. Тогда я был только адвокатом. Но я состоял в секретариате общеземской организации и, услышав, что в октябре 1905 года предположен учредительный съезд новой политической партии при непосредственном участии земцев, то для возможности это увидеть, по обыкновению, просил зачислить меня в секретариат и этого съезда. Мне ответили, что я легко могу стать его полноправным членом, если получу полномочия от какой-нибудь из «освобожденских ячеек». Я был на это согласен; меня тогда кому-то представили; я был на одном заседании какой-то «ячейки», где, помню, спорил с Н.А. Рожковым об избирательном праве. В результате оказался «делегатом» на съезде, который происходил в том же знакомом мне доме князей Долгоруких; я там встретил много знакомых из земского и адвокатского мира.
Моя неосведомленность о том, что до тех пор было уже для создания партии подготовлено, мне стала сразу ясна. Долгорукий открыл заседание предложением выбрать председателя съезда; со всех сторон раздались голоса: «Николая Васильевича Тесленко». Это, очевидно, было заранее предрешено, и выбор был очень удачный. Тесленко был образцовым председателем для многолюдных собраний. Но лично я этим был удивлен, так как думал, что на этом съезде играть первую роль будут земцы, а среди них я Тесленко никогда не встречал; руководительство в будущей партии, очевидно, предназначалось уже не земцам. Потом роздали всем проект партийной программы. Я по наивности думал, что в то время партия прежде всего должна была указать, как конституции добиваться, но об этом в программе не говорилось ни слова. Говорили только о том, какой в России должен быть порядок после падения самодержавия. Тогдашнее мое удивление я вспомнил теперь, когда при стараниях объединить эмиграцию для свержения диктатуры Кремля – о способе свержения ее тоже не думали. Программа конституционно-демократической партии была очень детальна. В некоторых параграфах ее оговаривалось, что в этих пунктах допускаются противоположные мнения. Это меня тоже с толку сбивало. Что же делать члену партии в пунктах, где такой оговорки не было, а при голосовании программы голоса разделялись? Должно ли было меньшинство большинству подчиниться и свое мнение переменить? Или, не меняя его, каждый должен был притворяться, что его переменил, и отстаивать то, с чем не соглашался на съезде? Или при разногласии с большинством в партию уже нельзя было вступать? Пределов партийной «дисциплины» я вообще не понимал. Впрочем, в этом я был не один. Со мной рядом на съезде сидел старый М.П. Щепкин, когда-то потерявший кафедру за некролог, написанный им после смерти Герцена; он на старости лет пришел участвовать в создании первой открытой политической партии. Он знал меня еще мальчиком и шептал мне на ухо: «Зачем такие подробности? Достаточно указать общее направление партии. Только оно для всех обязательно». Так этот вопрос и остался открытым: до каких пределов должна идти «дисциплина»? Но у меня оказалось разномыслие с партией по более серьезному и основному принципу. Когда обсуждался параграф проекта кадетской программы, говоривший о праве «перлюстрации» писем, я, возражая кому-то, имел неосторожность между прочим сказать, что партия, которая может сделаться завтра «государственной властью», и ответственной за самое существование государства, должна защищать не только «права человека», но и права «самого государства». Этот труизм вызвал такую бурю в собрании, будто я сказал непристойность. На меня ополчились, как на врага. В антракте меня дружески, но строго разнес С.Н. Прокопович.
– Мы, – говорил он, – не должны ставить партию в положение «правительства» и сообразовываться с тем, что, может быть, нужно ему. Это значило бы, по Щедрину, рассуждать «применительно к подлости». Мы должны все вопросы решать не как представители власти, а как защитники народных прав.
Этих слов я не забыл до сих пор; они многое мне объяснили; это была свойственная С.Н. Прокоповичу ясная формулировка того, что многие думали. Но как можно было стоять за парламентаризм, не допуская, что партия может стать государственной властью, и считать самое такое предположение для нее оскорбительным? Возможность таких суждений со стороны такого квалифицированного человека, как Прокопович, показывала, как мало для практического введения конституционного строя мы все еще были готовы. Мы жили старой психологией «войны с властью до полной победы», а не заключения с ней прочного мира. Я же, прошедший земскую школу, смотрел на это иначе. И если, несмотря на это свое «одиозное» выступление, я оказался выбранным в члены Центрального комитета, то этим был обязан случайности. На съезд явилась полиция. Было бессмысленно беспокоить несколько десятков людей, мирно сидевших в доме князей Долгоруких, когда кругом разгоралась всеобщая забастовка, когда Университет был наполнен «дружинниками», а на улицах происходили стычки с полицией. Было смешно, что в момент подобной анархии придираются к нам. Полицию у нас на этот раз приняли в палки. Председательствовавший на собрании Н.В. Тесленко отнесся к ней как к простым «нарушителям тишины и порядка». Он не дал приставу объявить даже о причине его появления, закричал, что слова ему не дает, что просит его не мешать и т. д. Мы делали вид, будто заседание продолжается. Для этого я попросил слова и кстати или некстати для нашей повестки стал говорить об ответственности должностных лиц за беззакония, доказывал, что по нашим законам вторжение пристава в наше собрание должно влечь за собой для него «арестантские роты» и т. п. Пристав понимал нелепость данного ему поручения, видел, что над ним смеются в лицо, и ушел. Нам наша «победа» была все же приятна; я разделил лавры Тесленко и приобрел «популярность».