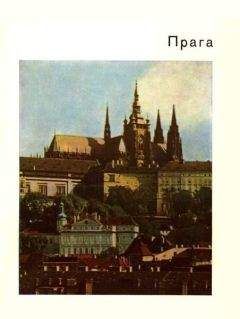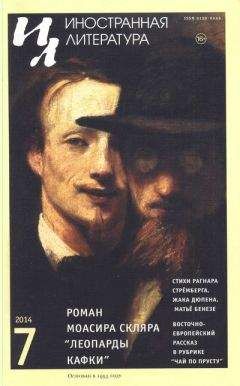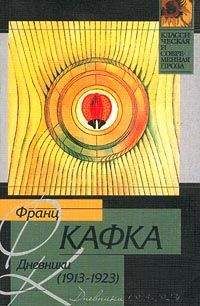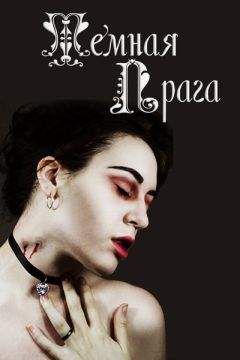Клод Давид - Франц Кафка
Мало-помалу Кафка приближался к иудаизму. Так, в начале 1923 года он говорил Минце Эйснер, которую встретил четыре года тому назад в Шелезене и с которой продолжал переписываться (та, несомненно, жаловалась на суровость своего положения служащей в сельскохозяйственном предприятии), что, сколь ни тяжелой была бы нужда, отец, даже забытый, продолжает заботиться и что все предусмотрено значительно лучше, чем кажется. И добавил, что «этим отцом-защитником может быть, например, еврейский народ». Кафка только что обрел сам себя в еврейском народе: несомненно, впервые за всю свою жизнь он чувствовал себя окрыленным и защищенным обществом, в котором ему было хорошо. Можно было сказать, что он только что познал детское простодушие. Макс Брод рассказывает, что с Дорой Кафка вел себя как ребенок. «Я вспоминаю, например, — пишет он, — что они вместе погружали свои руки в таз, который они именовали «наша семейная ванна». Они прекрасно подходили друг другу, продолжает он. «Богатства религиозной традиции восточного иудаизма, которыми располагала Дора, были для Кафки постоянным источником радости, в то время как девушка, которой были еще неведомы многие достижения западной цивилизации, любила и почитала обучающего ее профессора в такой же мере, как любила и почитала она странные грезы его воображения».
Можно подумать, что речь идет об открытии нового Кафки. Честно говоря, не стоит слишком поддаваться ослеплению первого впечатления. За несколько дней до своего отъезда из Мюритца он уже выражает свое разочарование Домом. «Маленькая видимая деталь немного скомпрометировала его в моих глазах, другие невидимые детали способствуют этому еще больше. Я здесь только гость, чужой, гость к тому же усталый, и у меня нет никакой возможности говорить, выяснять. Вот почему я от них ухожу». Но остается Дора, «чудесное существо», с которой он проводит лучшие минуты своей жизни.
Он мог бы остаться в Мюритце после отъезда Элли и ее детей, но он боится одиночества и не хочет больше находиться на положении приглашенного Домом. Так что в начале августа он уезжает и после двух дней пребывания в Берлине присоединяется к сестре Оттле в Шелезене, где проводит около трех недель.
* * *Он возвращается в Прагу 22 сентября, но остается здесь всего лишь два дня. 24-го он уезжает в Берлин к Доре Диамант. Он планирует пробыть там лишь несколько дней, но пробудет шесть месяцев. Это был, как он об этом скажет в письме своему другу Оскару Бауму, безумно смелый план. И ночь перед отъездом из Праги, действительно, стала одной из худших в его жизни, — ни одна армия во всей мировой истории, скажет он затем в письме Оттле, и близко не знала страхов, подобных его страхам. «Однако утром я не упал, вставая с кровати, и отправился, утешаемый фрейлейн (верная домработница Мария Вернер), пугаемый Пепа (его шурин Йозеф Давид), нежно ругаемый отцом, сопровождаемый печальным взглядом матери». В течение всей жизни он вынашивал план жить в Берлине. И вот наконец он осуществляет свою мечту на грани невозможного, когда любая надежда казалась ему немыслимой. «Эта берлинская затея, — пишет он Оттле, — так хрупка, и я схватил ее на лету, приложив к этому мои последние силы». Само собой разумеется, его здоровье продолжает ухудшаться. В письмах Максу Броду он говорит о приступах лихорадки, все более частых и все более серьезных. И тем не менее всякий страх исчез из берлинских писем, он живет в душевном спокойствии, можно сказать достигнутом за пределами отчаяния. Это даже не смирение, но хрупкое и парадоксальное счастье.
Притом Берлин 1923 года не идеальное место для пребывания. Это период галопирующей инфляции, деньги теряют свою стоимость с часу на час, а валюта, которой располагает Кафка, не из самых надежных. В силу этого квартирные хозяева с недоверием относятся к этому человеку без денег, и Кафка за шесть месяцев вынужден дважды менять адрес. Он живет в кварталах Штеглитц или Целендорф, — теперь неотъемлемые части Берлина, но в то время его пригороды. Первая его квартира, хозяйка которой, как говорят, послужила прообразом для главной героини рассказа «Маленькая женщина», была расположена на окраине города. Стоило лишь пройти до конца улицы, и ты оказывался в деревне, роскошные сады которой, наполненные приятными ароматами, Кафка неоднократно воспевал. Впрочем, вызывает некоторое сомнение, что сады издавали столько ароматов берлинской зимой, а может быть, Кафка слегка фантазировал, создавая воображаемый рай. Он редко отправляется в центр города, часто сотрясаемый политическими волнениями. Чтобы узнать политические новости, он ходит читать газеты, расклеенные в витринах различных агентств в Штеглитце. Площадь мэрии Штеглитца является для него тем же, чем для других является Потсдамская площадь — живым центром города.
Он встречается с очень узким кругом людей: время от времени с Эммой Сальветер, подругой Макса Брода, или каким-нибудь писателем, пришедшим к нему с визитом. Он никогда не выходит по вечерам, немного читает по-немецки. Его основным чтением является роман на иврите Йозефа Хаима Бреннера, который, впрочем, он одолевает с трудом. Если Кафка и покидает свой дом, что случается редко, то в основном, чтобы отправиться в Высшую школу изучать иудаизм. Его не слишком увлекают «либеральные» тенденции, но он пытается приобщиться к Талмуду. Одно время он думает о работе в Институте плодоводства (известно, что в прошлом он немного занимался садоводством ради физического укрепления), думает также, несомненно, об эмиграции в Палестину, постоянно занимающую его мысли, но все более и более иллюзорную. Однако у него нет сил, и он отказывается от этого плана. Несмотря на это, Кафка не скучает: «Дни проходят незаметно и праздно». «Когда убираешь руку с колеса времени, — пишет он своему другу Феликсу Вельчу, — оно стремительно проносится перед вами, и уже больше не находишь места, чтобы снова положить на него руку».
Шесть берлинских месяцев оказались далеко не бесплодными. Невозможно подвести их итог, поскольку Кафка, несмотря на настойчивые просьбы Доры, решил сжечь часть только что написанных рассказов. С уверенностью можно лишь сказать, что, кроме истории, озаглавленной «Маленькая женщина», еще два основных произведения родились в Берлине — «Нора» и «Певица Жозефина, или Мышиный народ». «Нора» не была полностью завершена, но можно быть уверенным, что главная часть замысла нашла воплощение в написанной части. Это снова общий взгляд, глобальная картина, итог. Здесь он описывает всю свою жизнь, жизнь холостяка и затворника. Перед тем как погрузиться в молчание, он доводит до конца свое желание самообнажения, вдохновившее все его творчество. Здесь нет никакого другого пейзажа, кроме вымышленного плана подземного логовища, нет другого живого существа, кроме самого рассказчика, рассказ разворачивается без каких-либо рамок, без персонажей, почти без событий. По мере того как герой создает и защищает свое одиночество — свое единственное подлинное достояние, он старательно подготавливает пустоту своей жизни. В созданном незадолго перед этим «Замке» был горизонт, пусть даже остающийся недостижимым, и, следовательно, оставались какая-то надежда и какая-то перспектива. Теперь же мир, в котором живет рассказчик, полностью замкнут: входы в нем замаскированы, это место, куда, кроме него, никто не может проникнуть. Возле одного из ложных входов существует, однако, место, заслуживающее того, чтобы на него обратили внимание. Рассказчик определяет его как «выход» и называет также «лабиринтом». Это первая часть обустроенной им норы, но если вначале он ее как-то ценил, то теперь видит в ней лишь недостойное ремесленничество. Однако он не может, что бы ни делал, избавиться от некоторой нежности по отношению к этим местам, которые, по всей вероятности, олицетворяют его литературное творчество. Хозяину норы угрожают не только внешние враги: «Есть они и в недрах земли /…/От них не спасет и другой выход, хотя он, вероятно, вообще не спасет, а погубит меня, но все-таки в нем моя надежда и без него я не смог бы жить». Надежда, но в то же время и опасность, поскольку литература далеко не безопасная забава, писатель здесь предстает беззащитным: «Мне иногда кажется, — говорит зверек, приближаясь к своему лабиринту, — что моя шкура истончается, что я скоро останусь там с голым телом и что как раз в этот момент мои враги встретят меня своим воем».