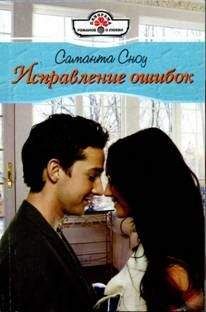Саймон Моррисон - Лина и Сергей Прокофьевы. История любви
Из-за постоянных массовых арестов структура МГБ разрослась до невероятных размеров. На допросы Лину возили на грузовике за город. Проходили они во временном, на скорую руку построенном здании. Через щелку в задней дверце грузовика Лина видела знакомые улицы рядом с домом, а когда ее высаживали из машины по прибытии на место назначения, слышала лай собак и краем глаза видела кур. На Лубянке ее допрашивали в разное время в помещениях, расположенных на четвертом и шестом этажах административного здания, смежного с тюрьмой. Допросы устраивали в длинных, узких комнатах с желтоватыми цементными полами и белыми или бледно-зелеными стенами. В каждом таком помещении был стол, маленькое зарешеченное окно, табурет и пара вентиляционных отверстий, чтобы хоть как-то развеять запах дезинфицируюших средств и человеческого страха. В некоторых комнатах были паркетные полы, оставшиеся с тех спокойных времен, когда в здании размещалось страховое общество «Россия».
Четверо допрашивавших ее мужчин были полуобразованными головорезами, ничего не знавшими о мире за пределами Советского Союза. Жили они в убогих квартирах на маленькую зарплату, добывая дополнительные средства к существованию при помощи взяток и вымогательства. Работники лагерей, куда позже отправится Лина, следили за физическим состоянием заключенных, поскольку те должны были выполнять производственные нормы, однако перед сотрудниками МГБ ставилась другая задача – выбивать из арестованных признания. При этом никто не торопился. Использовались разные методы, от побоев до инъекций «сыворотки правды». Постоянное повторение этих страшных действий притупляло восприятие палачей, они сами полностью не осознавали, что творят, как не понимали и того, что в любой момент рискуют оказаться на месте своих жертв. Достаточно было доноса от подчиненного или начальника; одна волна послевоенных репрессий следовала за другой.
Одного из мучителей Лины звали Петр Маликов. Он родился в 1901 году в крестьянской семье в деревне Красовка, с 1919 по 1923 год служил в армии. Затем вступил в рабочий профсоюз в Саратове. Там же в 1927 году был принят в коммунистическую партию большевиков. Обучал грамоте крестьянок из своей деревни, а позже преподавал и вел семинары по истории партии. Приехав в Москву, Маликов поселился в коммунальной квартире, надзирал за строителями и механиками и параллельно работал в агитационно-пропагандистском секторе партийного комитета научно-исследовательского института. Маликов помогал директору Московского авиационно-ремонтного завода увольнять подозрительных рабочих; тем же самым он занимался на Нижнетагильском металлургическом заводе. «Дисциплинированный и политически грамотный» Маликов был награжден несколькими орденами и медалями[483]. На фотографии в личном деле можно увидеть сорокалетнего мужчину – тонкогубого, с остекленевшим взглядом, в застегнутом на все пуговицы костюме, полосатом галстуке и белой рубашке. Приподнятая левая бровь придает лицу скептическое выражение; взгляд пронизывающий, пристальный.
Среди товарищей Маликова был Николай Кулешов, который пришел на службу в политическую полицию (ГПУ) в 1933 году, после нескольких лет работы на московском металлургическом заводе «Серп и молот». Во время войны он служил в Смерше (сокращение от «Смерть шпионам!») в Сталинграде и на Украинских фронтах. Он неплохо выполнял свои обязанности, но тяжелое детство непоправимым образом сказалось на его психике. Отец умер в 1917 или в 1918 году, когда ему было восемь или девять лет, и доведенная до нищеты мать отдала сына в приют. В биографии Кулешов указал, что у него нет ни братьев, ни сестер, в контакты с иностранцами ни разу не вступал и без колебаний готов выполнить любую порученную работу. На фотографии, датированной 1939 годом, Кулешов одет в форму сотрудника МГБ. Из-за стрижки ежиком он выглядит намного старше своих 30 лет. Лицо круглое, шея короткая и толстая. Кулешов производит впечатление человека более грубого и агрессивного, чем Маликов.
Вместе с другими двумя агентами они били Лину, оставляли в темноте, не давали спать, держали в холодном карцере, выворачивали руки и ноги и связывали их за спиной. Как-то Лину бросили в камеру, полную льда. Под этими немыслимыми пытками Лина призналась во всем, в чем ее обвиняли. В ее личном деле уже были подшиты доносы и сфабрикованные обвинения, но их авторы остались неизвестными. По всей вероятности, Миры среди них не было.
Лине были предъявлены обвинения по четырем статьям; первое – кража документа в Совинформбюро. Лина пыталась возразить, тщетно объясняя, что в ее обязанности переводчика не входила работа с секретными документами. Второе обвинение было связано с одним из многочисленных писем, которые она посылала за границу через доверенных лиц и посольства. Письмо было написано неким Шестопалом, инженером, мужем Сусанны Ротенберг, парижской подруги Лины, которая работала в Москве в «Союзинторгкино» (с 1945 года «Совэкспортфильм»). Организация занималась импортом и экспортом кинофильмов.
Лину обвиняли в том, что она пошла на сделку с иностранцами и в обмен на доставку письма адресату передала секретную информацию о заводе в городе Горьком. В письме Шостаковичу с просьбой разобраться в ее деле Лина подробно описала, в чем ее обвиняют, и рассказала о методах, используемых следователями. Сначала ее «расспросили» об отношениях с Шестопалом и его женой. Допросам подвергся и сам Шестопал, и в конце концов он «выдал» Лину. Затем следователи провели очную ставку, чтобы «разоблачить» ее. «Шестопал был в ужасном состоянии, его было не узнать, – рассказывала Лина, – он избегал смотреть мне в глаза. Наверняка он признался под пытками, что передал мне не только обычное письмо, адресованное жене, но и какую-то информацию о заводе в Горьком… Я прочла это письмо и не нашла в нем ничего подозрительного, иначе не стала бы передавать его. Я считала Шестопала приличным человеком и не могу понять, как он мог сочинить, что у нас с его женой «заговорщические связи». Его жена не была антисоветчицей, и моя дружба с ней, учитывая ее возраст, была сродни отношениям матери с дочерью, и ничем более. Следователь кричал на меня после очной ставки и сказал, что я трусиха, и это станет причиной моей гибели»[484].
Лина много раз «признавалась» следователю, что в 1940 году действительно передала письмо Шестопала, но это было обычное письмо, в нем не было никаких секретных данных. Она отдала письмо француженке по имени Фанни (Теофания) Чипмен, 35-летней жене Норриса Чипмена, сотрудника американского посольства в Москве в конце 1930-х. По просьбе Лины Фанни отвезла письмо Шестопала в Париж в 1940 году и убедилась, что Сусанна Ротенберг его получила. Но Лина знала, что отправка и получение любых писем через дипломатические каналы иностранных государств является достаточным основанием для обвинения в измене. Однако она призналась, что пользовалась этими каналами, объяснив, что, прежде чем передать письмо, прочла его и убедилась, что в нем нет никаких антисоветских высказываний и секретных сведений. Лина также призналась, что отправила посылку Фанни Чипмен в Париж через Фредерика Рейнхардта.