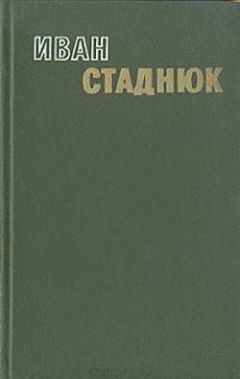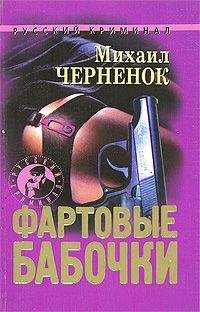Георг Брандес - Бальзак
Растиньяк – это тип молодого француза пройдохи. Он человек с дарованями, не выходящими, впрочем, из общего уровня, и весь идеализм его – кто неопытность двадцатилетнего возраста. Сначала он потрясен и поражен всем тем, что ежедневно видит и переживает, потом сам начинает домогаться жизни жизненных благ все с меньшею совестливостью и все с большей жаждою. Он возмущается, когда Вотрен в первый раз предлагает ему старый вопрос, согласился ли бы он убит мандарина в Китае, которого он никогда не видал, если бы для этого было достаточно одного желания получить миллион. Его воображению живо представляется хрипящий мандарин, уже мечущийся в предсмертной агонии. Сначала он, как и всякий, говорит, что желать сделаться великим или обогатиться во что бы то ни стало – то же самое, что решиться лгать, подличать, пресмыкаться, льстить, обманывать, – то же самое, что согласиться служить тем, кто лжет, подличает, пресмыкается. Потом он отрекается от этих убеждений на том основании, что вовсе не хочет думать, а только следовать влечению сердца. Было время, когда он еще был настолько юн, что не мог действовать с расчетом, но уже настолько созрел, что в его голове носились неопределенные мысли и туманные мечты. Если бы можно было их концентрировать химически, то получился бы не совсем чистый осадок. Сношения со светскою дамой, Дельфиной Нюсенген, дочерью Горио, довершают его воспитание. Он видит всю ту массу крупных и мелких невзгод, из которых слагается жизнь высшего общества, а в то же время находится под влиянием насмешливого циника Вотрена. «Еще два или три урока высшей политики – и вы увидите свет таким, как он есть. Важная особа, разыгрывая по временам мелкие добродетельные сцены, удовлетворяет каждой своей прихоти при оглушительных криках одобрения глупцов… Я с удовольствием позволю вам презирать меня сегодня, потому что потом вы меня полюбите. Вы найдете во мне те зияющие бездны, те сосредоточенные чувства, которые глупцы называют пороками, но никогда не найдете во мне робости или неблагодарности». Глаза его ясно видят кажущийся лоск всего окружающего. Он видит, что уставы и законы для наглецов служат только ширмою, за которою они свободны в своих действиях. Куда он ни взглянет, всюду ложное достоинство, ложная любовь, ложная доброта, ложные браки. С редким тактом изобразил Бальзак тот момент в жизни каждого даровитого юноши, когда при виде светской пошлости у него тяжело становится на сердце и душа наполняется презрением к людям. «Одеваясь, он предался самым печальным размышлениям, доводящим до отчаяния. Он смотрел на общество как на грязное болото, в котором тонет по уши каждый, кто только вздумает вступить в него. Там совершаются лишь мелкие преступления, – сказал он себе. – Вотрен покрупнее». Но по том, наконец, измеривши жерло этого ада, он отлично устраивается в нем и готовится подняться до верхних слоев общества, на пост министра, на котором мы его и встречаем в позднейших романах.
Почти все стороны Бальзаковского таланта нашли себе выражение в этом произведении, столь широко задуманном. Его необычайная живость, его необыкновенный дар изображать верно типы – вполне гармонируют с тем тоном, который так идет к пошлому, истаскавшемуся, грубо острящему обществу собутыльников в пансионе Вокера. Светлых личностей почти не встречается, а потому мало поводов для автора впадать в пафос. Зато читатель постоянно имеет случай наслаждаться тою смелостью и верностью правде, с которыми Бальзак анализирует душу преступника, кокетки, финансиста и завистливой старой девы. Тип старика-отца, брошенного и забытого дочерями, именем которого озаглавлена книга, не совсем удался. Он – печальная жертва, но Бальзак слишком уже сентиментальничает по поводу этого. Совсем не кстати, например, он называет Горио: «Ее Christ de la pauvreté». Кроме того Бальзак придает любви Горио к дочерям (как в романе «Le Béquisition Baire» любви матери к сыну) такой приторный оттенок, что вам противны её слащавые проявления. Но этот покинутый старик, над любовью которого так издеваются родные дочери, играет главную роль в романе и благодаря этому он получает единство и цельность, а это производит выгодное впечатление.
Сатира на общество в духе Ювенала как бы заканчивается меткою эпиграммою. Когда Дельфина отказывается навестить умирающего отца, чтобы подняться степенью выше на общественной лестнице, она непременно хочет воспользоваться приглашением, которого так долго и напрасно ожидала, и явиться на бал к аристократке г-же Боссан. На этот бал, ведь, стремится «tout Paris». Кроме того, она мучится жестоким любопытством. Ей хочется полюбоваться следами мучений на лице хозяйки, которая получила в то утро известие об обручении своего неверного любовника. Мы следуем на Дельфиной, которая едет на бал в своем экипаже вместе с Растиньяком. Молодой человек знает, что она готова проехать по трупу своего отца, лишь бы явиться на этот бал, ноу него нет сил порвать с нею отношения. Он даже боится прогневить ее упреками, но не может не сказать нескольких слов о печальном положении её отца. Унея слезы на глазах. «Но ведь я подурнею, – подумала она про себя и слезы высохли. – Завтра я буду ухаживать за отцом, не отойду от его изголовья», – сказала она. И она действительно думает то, что говорит; она не зла, но она – живое воплощение общественных дисгармоний, рождена не в знатной семье, была богата, лишилась своего богатства, благодаря несчастному браку, любит наслаждения, пуста и честолюбива. Но у Бальзака не хватило таланта изобразит Корделию во всей её Шекспировской чистоте и непорочности: сфера возвышенного – не его сфера. За то Регана и Гонерилья вышли у него человечнее и ближе к правде, чем у гениального британца.
V
Однажды, в 1836 г., Бальзак явился возбужденный, торжествующий, к своей сестре, энергически махая своею тростью, подобно тамбур-мажору. На сердоликовом набалдашнике её он велел вырезать турецкими буквами следующий девиз султана: «Я разрушитель препятствий». Подражая аккомпанементу военной музыки и бою барабанов, он весело крикнул детям: «Поздравьте меня, дети, ведь я скоро сделаюсь гением». Он задумал связать в одно целое все свои романы – и написанные, и будущие и составить из них «Comédie humniae». План был грандиозен и до такой степени оригинален, что подобного еще не являлось в целой всемирной литературе. Он был порождением того же духа системы, который в своем начале поприща внушил ему мысль написать целый ряд исторических романов, обнимающих собою целые века. Новый план, конечно, был интереснее и благотворнее: если б он удался вполне, то его поэтические произведения отличались бы чарующей иллюзией и правдоподобием исторических документов. Его произведение имело бы законное право считаться целым в научном смысле.