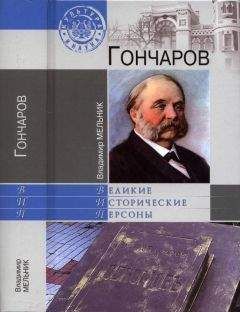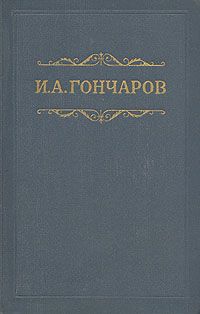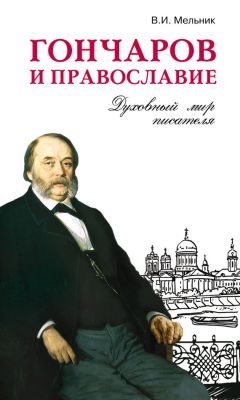Юрий Лошиц - Гончаров
Но после таких вот заплывов насколько крепче, уверенней, самостоятельней чувствует себя студент. Он не просто покорный слушатель, он сам отчасти становится соавтором лектора. И наконец, особо выделяет Гончаров, какую свободу почувствует он в своей письменной речи!
Из среды профессоров любимцами юных филологов в те годы были Надеждин, Шевырев и отчасти Каченовский. Последний считался глубоким знатоком своего предмета — славянских древностей, — хотя его неуправляемый, ребячливый какой-то скептицизм, а заодно и скучная, бормочущая манера чтения сильно вредили стареющему профессору во мнении юной публики.
Зато молодого, вдохновенного, блистающего обширнейшими познаниями Николая Надеждина студенты обожала безоговорочно. Его ученая карьера казалась фантастической. Сын сельского священника, он в свои двадцать восемь лет был уже признанным мэтром в области истории философии, археологии, теории литературы. Он успел объездить многие европейские культурные центры, а в Москве стяжать славу одного из самых талантливых журналистов. С недавних пор Надеждин стал редакторок в издателем научно-художественного журнала «Телескоп» и газеты «Молва». Его лекции были импровизациями, сотни цитат из классических произведений он декламировал наизусть.
И вдобавок ко всему был ласков и дружелюбен со студентами, никого не подавлял своей эрудицией. На факультете только и говорили о недавно защищенной им диссертации, в которой он критиковал классицизм, а еще более — модный романтизм.
А Шевырев! Он тоже был молод, обаятелен, вдохновенен. Он тоже недавно прибыл из-за границы с громадным багажом познаний ив области иноязычных литератур — от древних до новейших. Его лекции также проходили при забитых до отказа аудиториях. Раз от разу открывались перед студентами новые пространства к имена: мистическая поэзия Индии, подобный целому материку мир Шекспира, старые греки, великие номы Италии… Одиссей и Фауст, Дон-Кихот и Манфред, Гамлет и Тартюф…
Преподававший историю русской литературы Давыдов хотя и числился в знаменитостях и даже в либералах (недаром его приезжали слушать важные московские господа и дамы), но в среде студентов популярен не был. За впечатляющей наружностью, за плавностью отработанных жестов и интонаций не чувствовалось ни искренности, ни внутренней силы. Но все же и его прилежно конспектировали: как-никак ведущий предметна словесном отделении.
Запомнился Гончарову и Михаил Погодин — одна из колоритных фигур эпохи. Наслышанные о нем как о крупном знатоке русской истории, патриоте я человеке демократического поведения, студенты ожидали от Погодина большего. Но однокурсникам Гончарова он читал не отечественную, а всеобщую историю, ничего оригинального в этом курсе не было, молодые люди скучали, отвлекались, переговаривались, профессор злился, громко отчитывал замеченных говорунов. Лишь при этих инцидентах и оживлялась аудитория.
Университетские впечатления юноши, закрепленные на бумаге стареющим уже писателем, нисколько не поблекли от времени, не исказились за давностью лет. В этом можно убедиться при параллельном прочтении гончаровского очерка и мемуарных заметок еще одного универcитетского студента 30-х годов — Сергея Соловьева (сына того самого училищного священника Михаила Соловьева, который в коммерческом преподавал Ивану Гончарову вероучение).
Будущий историк поступил в университет восемью годами позже будущего писателя. Но состав профессуры сохранялся при нем почти тот же (за исключением Надеждина, который был сослан после скандала с чаадаевским памфлетом, опубликованным в «Телескопе»).
Так, о Каченовском Соловьев, в частности, пишет: «Любопытно было видеть этого маленького старичка на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно: но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится, и засверкают карие глаза под седыми бровями…»
Совпадает с гончаровским и мнение Соловьева о профессоре Давыдове — честолюбив, завистлив, лицедей: «Целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты… курсу Давыдова дали название: «Ничто о ничем, или теория красноречия».
Во многом сходное впечатление произвел на обоих студентов и Погодин. Но вот о Степане Шевыреве мнения оказались почти диаметрально противоположными. «Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, — пишет о нем автор «Истории России», — изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством».
Тут одно из двух: или Шевырев как лектор и как личность в промежутке между началом и концом 30-х годов сильно деградировал, или художественное впечатление о нем будущего писателя оказалось все же более объективным, чем профессиональное мнение будущего историка и лектора. В основном же заметки С. Соловьева об университетских преподавателях — богатый биографический фон для студенческих лет Гончарова.
Кстати, сходной в мемуарах обоих оказалась и характеристика попечителя Голохвастова, с появлением которого однокурсники Ивана Гончарова вдруг почувствовали, что начальство начальству все-таки рознь и что безмятежный быт «республики», оказывается, достаточно зыбок.
Приход Голохвастова действительно знаменовал перемену верховного отношения к университетским порядкам. Очерк «В университете» этой перемены касается лишь в общих чертах. Уже с первого курса студенты быстро разделялись на небольшие компании, кружки и группы. В таком обособлении многое подсказывалось личными симпатиями, авторитетом вожаков, вокруг которых сплачивались единомышленники. Ничего не сообщая о кружке, в который входил он сам, Гончаров выделяет среди других компаний однокурсников группу, состоявшую из Станкевича, Константина Аксакова, Строева и Бодянского. Но ни с одним из них знаком он не был. Не успел познакомиться и с Лермонтовым, который после первого курса оставил университет и уехал в Петербург. Эти подробности помогают представить степень отъединенности студенческих компаний. Сравнительно с группами Станкевича или Герцена, студента физико-математического отделения, кружок, в который входил Гончаров, видимо, представлял собой полюс аполитичности, полной сосредоточенности на одних лишь литературных интересах.
Появление нового попечителя Голохвастова было поэтому для Ивана Гончарова событием гораздо менее ясным, чем для иных его сверстников, которых уже в те годы волновали социальные вопросы.