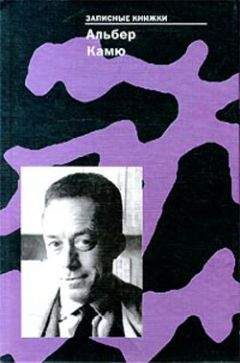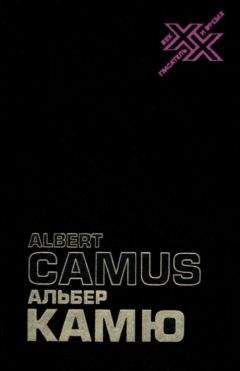Альбер Камю - Записные книжки. Март 1951 – декабрь 1959
«Даная» Корреджо и в особенности «Венера, надевающая венок амуру» Тициана, написанная им в 90 лет и по-прежнему юная.
Во второй половине дня – картины Караваджо, но не те, что у Св. Людовика Французского, совершенно потрясающий контраст неистовости и немой плотности света. До Рембрандта. Особенно «Признание Св. Матфея»: потрясающе. К. указал мне на постоянное присутствие темы молодости и зрелости. Моравиа уже рассказывал мне раньше о Караваджо: совершил несколько преступлений, бежал из Тосканы на корабле, там его ограбили и выбросили на пустынном берегу, где он умер, сойдя с ума (1573-1610). Моравиа рассказал мне тогда и истинную историю Ченчи, о которых он хочет написать пьесу. Беатриче похоронили под алтарем собора Св. Людовика Французского. И вот в Риме беспорядки, Французская революция. Какой-то француз художник, санкюлот, участвует в разграблении собора. Снимают могильные плиты. Находят скелет Беатриче, тут же лежит и череп, отдельно от тела. Художник берет череп и, поддавая его ногой, словно мяч, выходит на улицу. Таков последний эпизод ужасной истории Беатриче Ченчи.
Ближе к вечеру возвращаюсь в Джаниколо. Сан-Пьетро-ди-Монторио. Да, этот холм – любимое мое место в Риме. Высоко в нежном небе – стаи скворцов, легкие, как облачка кружат во все стороны, носятся друг другу навстречу, рассеиваются по небу, затем вновь собираются, ныряют вниз, пролетают над самыми верхушками пиний и снова взмывают ввысь. Когда мы с Н. спускаемся с холма, мы обнаруживаем их уже на деревьях, в кронах платанов на Вьяле дель Ре, на той стороне Тибра, причем в таком огромном количестве, что каждое дерево гудит и стрекочет, так как птиц на нем больше, чем листьев. В наступающих сумерках оглушительный щебет перекрывает все шумы этого многолюдного квартала, смешиваясь с позвякиванием трамваев, и заставляет всех с улыбкой задирать кверху головы, дивясь на огромные эти рои из листьев и перьев.
Высокий римлянин, обслуживающий меня в пансионе: брюнет, черты лица мягкие и благородные, держится просто, но с достоинством. Новелла. Любовь с художником. Полнейшее благородство с его стороны.
Написать текст в стиле барокко о Риме.
4 декабря.
Утро. Дворец Барберини. «Нарцисс» Караваджо и особенно мадонна, которую приписывают П. делла Франческа, на которая по манере, более хрупкой, на мой взгляд, принадлежит скорее Синьорелли. В любом случае великолепно.
С Моравиа и Н., обед в Тиволи и вся вторая половина дня на вилле Адриана – замечательное место. Вообще весь день просто чудесный, небо ясное, сочное, изливающее из всех своих уголков равное количество света на изнурительные кипарисы и высоченные пинии вокруг виллы. Так же равномерно освещены и сохранившиеся большие куски стен с их облицовкой в виде сот, из этих цементных ульев свет стекает уже каким-то густым медом. Здесь для меня становится еще нагляднее отличие римского света от любого другого, например, от флорентийского – более размытого, серебристого, короче, более духовного. Римский свет, напротив, полнокровный, лоснящийся, тугой. Сразу представляешь себе тела, довольство дородной плоти, сытость и зажиточность. Задний план кажется еще сочнее. И среди развалин птицы поют. Верх совершенства, перед которым с радостным удивлением понимаешь, что все уже сказано.
Ужин, Пьовене. После трех десятков встреч и разговоров я понемногу уясняю для себя истинное положение дел здесь. Сталкиваются не мнения, а кучки заговорщиков. Либералов мало, нищета, которую используют, и уже появляется безразличие.
В сорок лет по поводу зла уже не вопиют, о нем все известно, и кто как считает нужным, тот так с ним и борется. Тогда появляется возможность, ни о чем не забывая, заняться творчеством.
Движение ввысь, вознесение на фреске «Страшный суд», справа от алтаря, передано у Микеланджело через подчеркнутую тяжеловесность мускулов, отчего возникает неотразимое впечатление легкости. Чем эти тела тяжелее, тем они легче. Вот это и есть искусство.
В апартаментах Борджиа Риторика на картине Пинтуриккио изображена со шпагой.
Сердце немного щемит, как подумаешь, что Юлий II приказал уничтожить фрески Пьеро делла Франческа (и других), чтобы его покой расписал Рафаэль; чем же заплачено за бесподобное «Освобождение Св. Петра»?
«Снятие с креста» Караваджо. Самого креста так и не видно; подлинно великий художник.
6 декабря.
День пасмурный. У меня температура. Сижу дома. Вечером виделся с Моравиа.
Роман.
Первый Человек заново проделывает тот же путь, и ему открывается его тайна: он не первый. Каждый человек – первый, и никто первым не является. Поэтому он бросается в ноги матери.
7 декабря.
Отъезд вместе с Никола и Франческо. Римская Кампания. Ф. так прекрасен, так от всего далек и в то же время прост и открыт. Деревня Цирцея. Прибыли в Неаполь. Обед в Поццуоли, в ресторане, как две капли воды похожем на Падовани. В Неаполе проливной дождь, от которого у меня поднялась температура. Вечером небо прояснилось.
8 декабря.
Проснулся с высокой температурой. Вчера вечером не смог закончить эти заметки. Однако довольно долго гуляли по «Барриос», за улицей Санта-Лючия. Точно бидонвиль на задах Елисейских полей. Через открытую дверь видно, например, как трое детей лежат в одной постели, иногда вместе с отцом, причем их нисколько не смущает то, что на них смотрят. Повсюду хлопает на ветру белье, придавая Неаполю постоянно праздничный вид, хотя на самом деле у людей просто не хватает белья и приходиться каждый день стирать. Это знамена нищеты. Вечером Н. Ф. Садимся в какую-то мокрую повозку, пахнущую кожей и лошадиным пометом. У мужской дружбы всегда приятный вкус. Н. везет нас в квартал Порта Капуана. Главная улица поднимается вверх. На каждом балконе стоит лампа с абажуром, из-за чего вся эта нищета имеет вид необыкновенно праздничный. Перед церковью – какая-то процессия. Развевающиеся знамена над небольшой толпой, которая топчется в грязной жиже из капустных листьев, оставшихся от утреннего рынка. Но главное – петарды. В честь каждого святого. Оглушительная пальба предшествует появлению Богоматери. В одном из окон какой-то сумасшедший с остановившимся взглядом механическим движением поджигает и швыряет в толпу одну за другой десятки петард, вокруг которых с визгом носятся дети, до тех пор, пока те не взорвутся. Гостиница для бедных. Весьма познавательно. Это Эскуриал нищеты…
8 декабря.
Целый день пролежал в постели, температура не спадает. Теперь уж, конечно, ни в какой Пестум я не попаду. Как только станет немного получше, возвращаюсь в Рим, оттуда в Париж и на этом все. Что-то все-таки есть между мной и греческими храмами. И каждый раз в последний момент что-то мешает мне до них добраться.