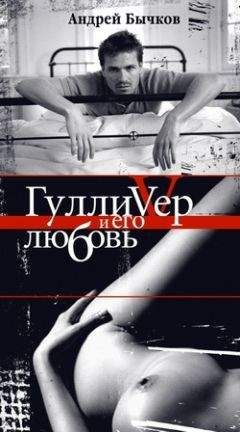Сергей Рафальский - Что было и что не было
Через много, много лет, уже в Париже, я прочел книгу «На земском посту» доктора С. Ф. Вербова и познакомился с автором. Это был далеко не заурядной судьбы человек. Начать с того, что доктор, после работы в Земгоре, в конце войны стал врачом в кавалерийском гвардейском полку и даже участвовал в атаке (если можно назвать «участием» положение всадника, которого ошалелая лошадь носила по бранному полю, а он думал об одном — как бы удержаться и не свалиться…). После октябрьского контрреволюционного переворота оказался он в том же качестве лекаря в конной армии Гая, которая подходила к Варшаве с севера, и по вине Сталина и Буденного повернувших к Львову вместо того, чтобы идти с ним на стык к Варшаве, будучи окружена поляками, после ряда гомерических атак, напомнивших французским офицерам, бывшим при польском штабе, наполеоновские годы и конницу Мюрата, прорвалась в Восточную Пруссию и была интернирована. После Рижского мира гаевцы вернулись в СССР, а доктор остался на Западе. Его книга потрясла меня, с одной стороны — убедительным, правдивым и сочувственным изображением нашей «нищей России» и действительно часто подвижнической работы земских врачей в деревнях, с другой — царившей будто бы на стыке столетий в Харьковском университете (где учился доктор) удручающей полицейщиной, чудовищно не похожей, не соответствующей тому, что я нашел в Петрограде.
Правда, впоследствии в разговорах не столько с автором, сколько с его милейшей супругой, я понял, что, поскольку в эмиграции читатель вымирает, а в СССР его непочатый угол, доктор, образно выражаясь, «сгустил краски» в надежде, что соввласти, у которых в Высшей школе еще хуже, соблазнятся возможностью «найти предка» и пропустят книгу в СССР.
Увы, книга не прошла, конечно, а описание «ужасов самодержавия» осталось. В книге доктора «педеля» следят за студентами, подслушивают, подглядывают, залезают даже в курилки. Между ними и слушателями лекций шла непрерывная гражданская война. Естественно, что студенты все время находились на точке кипения. Ничего даже приблизительно подобного я не увидел в Петрограде в историческом здании Петровских Двенадцати коллегий со знаменитым «километровым» коридором. Никаких педелей не было и в помине, то есть был на своих местах вообще малозаметный обслуживающий персонал, сторожа у вешалок и в раздевалке. У последних были у каждого свои «клиенты», которых они знали в лицо и при случае снабжали полезными сведениями, собранными за годы работы от других «клиентов», в частности, о профессорах и их экзаменационных привычках. Когда я как-то, после не совсем благочестивой недели, решив, что все же следует и лекции послушать, зашел в университет и стал снимать пальто, про себя удивляясь, что раздевалка какая-то пустая, сторож меня спросил: «А кого же вы хотите слушать?» — «Конечно, Петражицкого…» — «Да сегодня же праздник!..»
Посещение лекций (по крайней мере, на юридическом факультете) не было обязательным, но аудитории всегда заполнялись у читавших интересно, а тем более таких знаменитых, как Петражицкий, создатель несправедливо забытой эмоциональной теории права, бывший вдобавок весьма придирчивым и беспощадным экзаменатором. У профессоров «назначенных», появившихся при Кассо, слушатели легко поместились бы в одном ряду, если бы сели кучей, но какой процент составляли ходившие по наряду «академисты», а какой случайные или любопытные посетители вроде меня — сказать не могу. Вдобавок читали «назначенные» нелюбопытно.
В те годы вежливость еще не считалась ущерблением личной свободы, и, когда входил профессор, слушатели вставали и садились не дожидаясь, пока им скажут сесть. По окончании лекции аплодировали иногда из приличия, а то с благодарностью и даже с восторгом… Аплодисментов, переходящих в овацию, не помню. Впоследствии, сравнивая с западными университетами, пришел к заключению, что у нас скорее были старшие и младшие товарищи, чем учителя и ученики. На Западе, похоже, студентов больше загружают работой.
В составе учащихся подавляюще преобладали разночинцы, процент детей рабочих и крестьян, конечно, был незначителен — этого порядка молодежь только-только стала заполнять городские (четырехклассные) и ремесленные училища.
Даже внешностью студенты этих лет отличались от привычного «типа» XIX столетия. Почти не было «патлатых». Если в других университетах предпочитали форму, то в Петрограде обязательной (то есть вернее — общепринятой) была только фуражка (шляп я как-то почти не помню), но пальто было обычно штатским, как часто весь костюм (мой иркутский приятель называл его «тройкой»). Впрочем, обычный гость двух студентов, снимавших комнату рядом с моей, носил длинные волосы, тужурку, красную косоворотку и сапоги. Но он был эсером и — выражаясь по-современному — активистом. Мы называли его — по Андрееву — Тенором, потому что он лихо пел под гармошку свои рязанские «страдания». В нормальных условиях крепко посмеивавшиеся над его революционной деятельностью, мы, когда дворник его предупредил о возможном обыске и он поспешно эвакуировал из своей комнаты нелегальную литературу, — все же добросовестно ее у себя (и в хозяйских дровах) прятали.
Если революционеры явно потеряли в глазах молодежи свой прежний ореол, то власть от этого никак не выигрывала, и верные ей «академисты» были предметом всеобщего злого презрения.
В момент объявления войны, когда происходила периодическая манифестация, петроградские студенты — говорят — стояли на коленях перед Зимним Дворцом и пели «Боже Царя храни». Но бесталанная власть не сумела ни ответить на этот стихийный порыв молодежи, ни его закрепить, ни — тем более — использовать. И уже на втором году моего пребывания в университете начались антиправительственные демонстрации.
В то время, как с одной стороны знаменитого бесконечного, как посадочная площадка реактивного самолета, коридора двигалась сотня революционеров с пением «Марсельезы», а с другой им навстречу — тоже сотня «академистов» с «Боже Царя храни», остальная тысячная масса сидела на подоконниках, курила, болтала ногами, вышучивала и тех и других: «Две паршивые собаки грызутся, а мы тут при чем?» — так формулировал общее настроение один молодой мыслитель, даже не предполагавший, до чего он прав.
Действительно, все эти будущие российские судьи, адвокаты, учителя, ученые — были уже решительно вне спора «двух паршивых собак». Еще в среде курсисток сохранилась старая народническая слащавость, и мне лично приходилось слышать разговоры девушек, во всех прочих отношениях вполне нормальных, о том, что «…мне уже 20 лет, а я еще ничего не сделала для народа». И лично я знал дочь богатейшего архангельского купца, которая, по окончании гимназии, пожелав «служить народу», определилась учительницей в самое гиблое место на Кольский полуостров. В ее поморскую дыру с парохода спускали ее по веревке — пристани не было. Проработав там два года, она серьезно заболела — опасались туберкулеза, — и родители на коленях умолили ее поступить на курсы. Такие героические сентиментальности у среднего студенчества уже были не в моде. Университет для кающихся дворян отошел в прошлое.