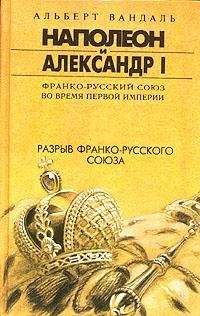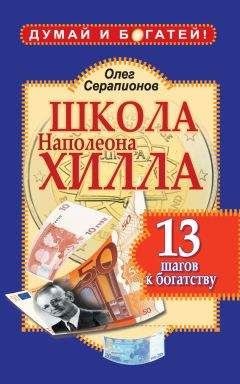Альберт Вандаль - Второй брак Наполеона. Упадок союза
Итак, сдержать и запугать Австрию, пользуясь для этого Россией, – такова по-прежнему его преобладающая мысль. К этой цели сводятся все его усилия, и, поистине, вовсе не плохой сюжет для исследования представляет то, что в деле предупредительной политики он на шестьдесят лет определил самого грозного врага, какого только встречала пред собой Франция в течение девятнадцатого века, и наметил ему путь. Накануне нашего разгрома в 1870 году министр, создавший величие Пруссии, готовясь к войне с нами, боялся, как бы плохо примиренная Австрия, сохраняя в сердце горечь недавнего поражения и памятуя суровое с ней обращение, не поднялась против Пруссии и не поставила ее между двух огней. Он сразу же понял, что Россия, в силу ее географического положения, ее массы, ее внушительного внешнего престижа, лучше всякого другого государства могла оказать в Вене парализующее действие. Создав пред ее глазами мираж Востока, обольстив ее выгодами, скорее кажущимися, чем действительными, он добился того, что она вынудила Австрию к бездействию, наложив запрещение на ее воинственный порыв. Это была буквально та же самая роль, какую Наполеон, пользуясь теми же приемами, пытался навязать царю во время свидания в Эрфурте и которую он ему снова предложил в январе 1809 г. Судя по тому, как отзовется Александр на его призыв, возобновленный при наступлении более трудных и более тяжелых обстоятельств, он и решит вопрос о дальнейших к нему отношениях.
III
В то время, как Наполеон, после трех месяцев, проведенных в боях и походах, оторвался от войны с Испанией только для того, чтобы организовать дипломатическую кампанию, в то время, как его офицер, спешно отправленный в Петербург с новым планом действий союза, ехал через Германию, русский двор, вступивший на путь безмятежной бездеятельности, продолжал благодушествовать. Александр неизменно говорил о своей признательности за выгоды, которые были ему обещаны в Эрфурте, и не слишком торопился получить их. Единственное место в его государстве, где обнаруживалась некоторая деятельность, была граница со Швецией. Здесь военные действия были возобновлены, но не принимали характера достаточной силы и решительности. Поговаривали об экспедиции к Аландским островам, о высадке на берега Швеции, но и та, и другая оставались пока в проекте. На Дунае медлительность и формализм турок задержали открытие съезда уполномоченных, местом которого были назначены Яссы. В ожидании исхода переговоров, русские войска под начальством восьмидесятилетнего князя Прохоровского, стояли по своим квартирам. Что же касается Австрии, то, считая, что, сообщив ей свой взгляд, он достаточно успокоил ее, Александр находил бесполезным новые шаги в этом направлении и держался принципа невмешательства. Его дипломатия в Вене, равно как и его многочисленная пехота на Дунае, не двигались с места.
Главным и любимым его занятием за все это время были подготовка реформ и совместная работа со Сперанским. Стремясь провести в жизнь свои принципы, государь и его министр набрасывали основы обширного общеобразовательного учреждения. В то же время они составляли свод законов, общий для всей империи. Они хотели даровать России свой гражданский кодекс. Чтобы ближе подойти к избранному образцу, Александр вошел в сношения “с нашими выдающимися законоведами и учеными”,[22] приказывая аккуратно доставлять себе отчеты об их трудах. Посредником в связях с мирной Францией он избрал Коленкура и держал его в курсе всех своих начинаний. С начала своей блестящей миссии посланник никогда не был еще так близок к царю. То и дело герцог Виченцы приглашался во дворец короткими собственноручными записками, которые оканчивались сердечными или дружескими выражениями: то Его Величество ожидал его к обеду, то ему нужно было побеседовать с ним наедине; то он желал поздравить его с успехом нашего оружия, а то и просто желал его видеть и узнать о его здоровье.[23]
Эти милости личного свойства нисколько не мешали официальным почестям; их расточали при всяком случае тому, кого, Петербург называл одним словом “посол”, как будто кроме него не существовало других представителей. Правда, общество только терпело такое положение, но нельзя сказать, чтобы относилось, к нему доброжелательно. Оно ставило Коленкуру в упрек его властные замашки, его авторитетный и начальнический тон, почти царскую роскошь, которой он окружил, себя, и влияние, которое он, по-видимому, оказывал во всех делах на ум монарха; говорили: “скоро он и указы начнет писать”. Впрочем, враждебность к Франции сказывалась в это время скорее во вздорном злословии, чем в серьезном возмущении. Любимым занятием в салонах было судачить о наших бюллетенях из Испании, оспаривать их достоверность и от времени до времени сообщать о поражениях французских войск, пока какое-нибудь громкое событие, вроде взятия Мадрида, не вынуждало умы уступать пред очевидностью и не заставляло “лица вытягиваться”.[24] Общество по-прежнему много веселилось, делило время между частыми балами и интригами, и мешало одно с другим. Поэтому для высшего общества большим событием этой зимы, которому очень желали придать политическое значение, был приезд в Петербург короля и королевы прусских.
Прежде чем вернуться в свою столицу, очищенную нашими войсками, Фридрих-Вильгельм III и королева Луиза решили ответить царю на визиты, которые он сделал им в 1805 г. в Берлине и недавно в Кенигсберге. Они назначили свой приезд на январь 1809 г. Трудно было узнать наверное, от кого исходила инициатива этого свидания. Царь отрицал, что она исходила от него, король тоже; каждый из них желал показать, что он был на это вызван. Как бы то ни было, царь тотчас же принял меры, чтобы исполнить долг гостеприимства. Лишь только их Прусские Величества переступили его границу, он приказал поднести им в знак приветствия и как дар России великолепные меха; затем он послал им навстречу экипажи. Пока высокие путешественники приближались к столице, все внимание в ней было направлено на приготовление к их приему и празднествам. Руководимый утонченным чувством деликатности, тем благородством в поступках, которое было его характерной чертой, Александр хотел, чтобы обездоленная чета, еще более достойная внимания благодаря своему несчастью, нашла в его стране предупредительный и великолепный прием, который скорее соответствовал бы прошлому величию Гогенцоллернов, чем настоящему их положению, и чтобы с немецкими высочайшими особами обходились в Петербурге так, как будто битву при Йене выиграла Пруссия.
Никогда общественное мнение не допускало, чтобы государи могли покидать свою страну только для соблюдения приличий или ради удовольствия; оно всегда приписывает их путешествию сокровенные побуждения и выводит из них бесконечные следствия. И в настоящем случае думали, что, если Фридрих-Вильгельм и королева отправились в Петербург, то делалось это ради того, чтобы заинтересовать и растрогать царя своей судьбой и снова привлечь его к их делу, т. е. к делу королей, которых скрутил и угнетал Наполеон. В этом посещении, которое совпадало с отъездом Шварценберга в русскую столицу, каждый хотел видеть новое, настойчивое усилие Германии отвлечь Александра от французского союза. Сколько ни протестовали наши агенты против такого толкования, сколько ни повторяли, согласно полученному приказанию, “что в путешествии прусского короля не было ничего такого, что могло бы быть неприятным Его Величеству, что оно не могло произвести на него дурного впечатления”[25] их словам приписывали только сомнительную ценность официального опровержения. В Петербурге наши враги радовались этому путешествию, наши немногие друзья были встревожены; Коленкур был не в духе и готовился быть настороже.