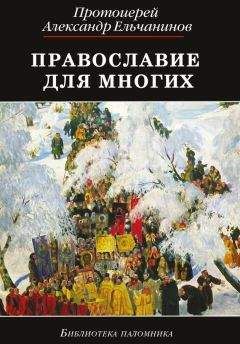Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Но как, когда именно и почему переехал отец из полюбившегося ему Томска в Иркутск, не знаю. И сразу ли в Иркутск? Или был еще и Омск? Не помню. Когда я была маленькой, в доме у нас было много сибирских фотографий; черно-белых или коричнево-желтоватых почтовых открыток с изображением Томского университета, Омского острога, Тобольской крепости, зданий Иркутска, лесных поселений якут, их юрт, портрета якутской «красавицы» в меховом одеянии и т. д. Скупые фразы отца о сибирских путешествиях и более подробные пересказы мамы его давних рассказов смешались у меня со зрительными впечатлениями от любимых мною картинок. Что было, а что почудилось? Теперь трудно сказать. Знаю только, что к иркутским временам относятся путешествия отца по Лене и Вилюю на барже — самые романтические страницы его жизни.
Происходили эти плавания (они, кажется, заняли два лета, две коротких сибирских навигации), вероятно, в самый канун войны 1914 года. Хозяева снаряжали несколько барж с самым различным товаром для аборигенов ленских и вилюйских берегов и посылали с этими баржами несколько молодых приказчиков. Те жили на этих баржах, останавливаясь в одних и тех же давно известных местах, где их уже поджидали местные жители, обитатели тайги, тундры и приисков, русские, якуты и кто там еще живет. Прямо на берегу и происходила веселая торговля. Баржи спускались к самому низу Лены, далеко за полярный круг, и поднимались почти к самым истокам Вилюя. Отец вспоминал эти путешествия как самые светлые и вольные моменты своей жизни. Были когда-то у нас и две-три туманные фотографии, мелко и не очень разборчиво запечатлевшие веселых, можно сказать, счастливых молодых людей на обширной палубе среди бескрайнего, пустынного водного простора. Помнится, были среди этих людей и какие-то барышни. А, может, то померещилось, примешались другие впечатления, от других карточек? Что, казалось бы, делать тогдашним барышням в их длинных юбках и белых закрытых блузках на баржах? А все-таки они мне там почему-то видятся.
Как же мало я все-таки о нем помню, как мало знаю!
Война 1914 года застала отца в Иркутске. Ему шел тогда 26-й год — самый солдатский возраст. Но в царской России был удивительный по нашим представлениям закон: единственных сыновей крестьян не брали на войну как кормильцев семьи. Отца мобилизовали в армию только в 1915 году и оставили в Иркутском гарнизоне.
Удивительное дело! Он и о солдатской службе рассказывал нам только хорошее, никогда ничего тягостного, дурного, тяжелого. Что это было? Мировосприятие или убеждение, что детям нечего усложнять жизнь? Он любил вспоминать восхитительный вкус жирных и наваристых солдатских щей с говядиной и способ благоволения или неблаговоления повара к тому, кому наливал он эти щи, черпая их со дна или сверху: сверху-то жирнее! Но несмотря на неприхотливую идилличность отцовских рассказов о солдатской службе, именно к этим годам иркутской жизни относится наиболее активная его деятельность революционера-большевика.
С самого начала революции, еще февральской, отец был выбран в Иркутские советы солдатским депутатом и играл в них активную роль. Знаю теперь и другое — а то именно, что скрывалось от нас в детстве, да и не только в детстве, особенно тщательно и что служило причиной молчания отца насчет всего, что касалось его прошлого: в 1918 году, когда началась гражданская война и в партию большевиков стали записывать солдат целыми полками, он протестовал против такого решения, считая этот агитационно-тактический ход демагогическим и верным путем к разложению высокой идейности партии. В результате разногласий с другими руководителями иркутской организации был арестован, а выйдя из тюрьмы, вышел и из партии. Вышел и навсегда замолчал об этой стороне своей жизни, видимо, главной для его молодости.
Демобилизовавшись из армии, отец стал служить в одном из бесчисленных и только что образовавшихся Союзов кооперации, думаю, также по принципиальным соображениям. Мое знакомство с рассказами Ивана Катаева убеждает, что в те годы можно было придавать и этой форме общественной организации некий высший смысл — как переходной ступени к новым социальным отношениям.
«Востсибкрайсоюз» — это трудное слово я знала с самого раннего детства. Это была папина работа и означало непонятное слово многое: и долгие папины отъезды из Москвы куда-то на Енисей, в Красноярск, и дальше, в Иркутск, и чудо его внезапных возвращений, и прелесть вятских деревянных игрушек, которые он покупал мне по дороге, и запах копченой нельмы, которую он привозил. Но задолго до всего этого была командировка в обратном направлении: он поехал из Иркутска в Москву по делам службы, кажется в первый раз в Москву, но гражданская война отрезала его от Сибири и решила его судьбу.
Прежде всего, как водится, в Москве его арестовали как возможного колчаковского шпиона. Опасность случайного ареста усугублялась тем, что при обыске у него нашли старый партийный билет: он хранил его и порвав с партией. А к этому времени прошел по стране общий обмен партийных билетов. К счастью, в старом астраханском билете 1904 года писалось просто «член РСДРП» и не было ни маленького «б», ни маленького «м». Это обстоятельство помогло отцу оправдаться. Он объяснил свое положение тем, что якобы порвал с меньшевиками и еще не решился примкнуть к большевикам (хотя на самом деле все обстояло иначе). В то время еще допускались такие тонкости, и отец был выпущен из тюрьмы.
Как внушителен, однако, был урок, если обо всех обстоятельствах ареста и освобождения отца я узнала у матери только в 1975 (!) году, уже приступив к этим запискам и проверяя для них некоторые сведения!
3С детства и до смерти отец прожил в бедности. Но род его занятий и природный вкус развили в нем любовь к первоклассным вещам, будь то добротная ткань или красиво изданная книга. Судьба скупо его наделяла ими, но тем лучше он умел их выбирать, ценить и беречь. И при более чем скромных возможностях как умел он сделать к случаю хороший подарок! Широкоформатный с золотым тиснением «Маугли» с рисунками Ватагина на именины, «Легенды об Уленшпигеле» в черно-глянцевом супере — на день рождения (и это при книжном голоде 30-х годов!), дивные замшевые туфли горохового цвета на высоком каблуке — в военной скудости и разорении весны 1943 года — к моему девятнадцатилетию, солидная кожаная сумка — в 1945 году под победные салюты… Один Бог знает, каких стараний, экономии и предусмотрительности стоили ему эти подарки.
С тем же вкусом выбирал он себе в 1920 году в пустой Москве жилье.
Я всегда предпочитал экономить на чем-нибудь другом, но жить в хорошем доме и хорошем районе, — говорил он, рассказывая о своих молодых странствиях. Позднее выбора не было, никогда уже не представлялось, и более двадцати лет он жил в темной конуре без дневного света и без уборной, хотя и на Кропоткинской. Но это уже была только милость судьбы, а не выбор.