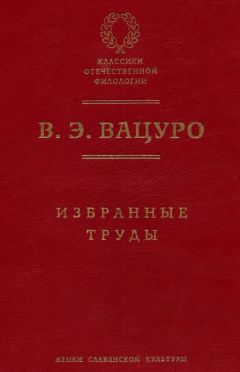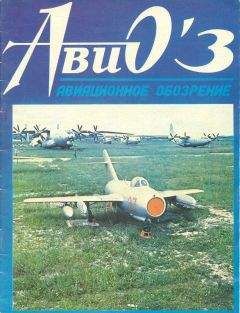Вадим Вацуро - Статьи разных лет
Этот писатель, не названный Розеном, — П. А. Вяземский, а цитированное стихотворение — его известное «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), бывшее в свое время предметом ожесточенной журнальной полемики и начинающееся словами:
Перед судом ума сколь, Каченовский! жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил.
Как оный вечный огнь на алтаре весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютый адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет
и т. д.
Добросовестный мемуарист, Розен, конечно, не выдумал этот эпизод, но смысла его не понял, так как не мог знать его предысторию.
Послание Вяземского было резким памфлетом на Каченовского как «зоила» Карамзина. Оно появилось в январский книжке «Сына отечества» за 1821 г.; сразу же по выходе Каченовский перепечатал его в своем «Вестнике Европы», снабдив издевательскими примечаниями. Одно из них касалось замеченной Розеном строки с «весталками». Изысканный и неточный образ, как считал критик, дан только для рифмы; малоталантливый автор изнемог в борьбе с техническими трудностями стиха. Каченовский приводил к случаю признание «дурного поэта» из сатиры И. И. Дмитриева «Чужой толк»:
…Чалмоносна Порта!
Но что же к ней прибрать мне в рифму, кроме Черта?[76]
Выпад Каченовского был подхвачен; другой критик «Вестника Европы» в мартовской книжке журнала замечал: «Огонь в храме Beсты был священнейшим, благодетельнейшим для римлян <…> а здесь, для рифмы, он служит примером мучительному огню зависти!!»[77]. Еще через два месяца Каченовский печатает ответное послание Вяземскому С. Т. Аксакова, где тоже не забыт «огнь весталок»:
Священной Весты огнь не оскорблю сравненьем
Сего фанатика с безумным ослепленьем[78].
Уже 19 февраля 1821 г. в письме А. И. Тургеневу Вяземский отвечал на упреки: «Можно прибрать и палок и галок, и все это будет не hors d’oeuvre»[79].
Пушкин на юге следил за «журнальной войной» и тоже принял в ней некоторое участие. Посланием Вяземского он не был доволен и 2 января 1822 г. писал автору, что для Каченовского достаточно было «легкого хлыста» эпиграммы и не было надобности в «сатирической палице» (Акад., XIII, 34). Вслед за тем он пишет сам такую эпиграмму — известное четверостишие, посланное в письме Л. С. Пушкину 21 января 1822 г.:
Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем
и т. д.
Эти строки каламбурны и имеют в виду как раз примечание о «весталках». Нападая на рифму «жалок» — «весталок», Каченовский подсказывает («ищет чутьем») другую, более естественную — «палок». Любопытно, что Вяземский также шел к этому каламбуру, но остановился на полпути. В марте 1823 г. Пушкин посылает текст эпиграммы и самому Вяземскому (Акад., XIII, 60). А 7 июня 1824 г., как будто продолжая начатый за два года до этого спор об эпиграмме как средстве полемики, он пишет Вяземскому по поводу эпиграммы последнего на М. Дмитриева и А. Писарева («Цып, цып, сердитые малютки»): «Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны, о поединке и смех и грех было и думать: то ли дело цып-цып или цыц-цыц» (Акад., XIII, 96).
Прямые или косвенные отзвуки этой полемики прослеживаются в творчестве Пушкина и позднее. Среди приписываемых ему стихотворений некоторое время печатался экспромт, как раз на четыре упоминавшиеся рифмы:
Черна, как галка,
Суха, как палка,
Увы, весталка,
Тебя мне жалко.
Принадлежность этого экспромта Пушкину была предметом сомнений и колебаний. П. А. Ефремов, исключивший его из своего издания, как написанный С. А. Соболевским, в следующем же томе напечатал поправку, указав на авторство Пушкина — с глухой ссылкой на источник своих сведений[80]. Позднее он раскрыл этот источник: им оказалось свидетельство П. П. Вяземского, удостоверившего, «что четверостишие это действительно пушкинское»[81]. Атрибуция Вяземского в дальнейшем, впрочем, была отвергнута, и лишь недавняя находка автографа — по-видимому, пушкинского — вновь ставит этот вопрос. Текст, напечатанный Ефремовым, был либо одной из редакций, либо переданным по памяти и искаженным текстом пушкинского экспромта «К портрету N. N.»:
Вот вам весталка,
Суха, как палка,
Черна, как галка,
Куда как жалка[82].
Каков бы ни был адресат эпиграммы, литературная генеалогия ее ведет к «Посланию к М. Т. Каченовскому» и последующим полемикам, и весьма любопытно, что именно семейная традиция Вяземских безоговорочно приписывала это четверостишие Пушкину.
Ни история полемик вокруг послания Вяземского, ни пушкинский экспромт, конечно, не были известны Е. Ф. Розену, с рассказа которого мы начали этот этюд. Розен вошел в пушкинский круг лишь в конце 1820-х годов; в начале десятилетия он едва знал русский язык. Имя Вяземского он скрыл: в 1847 г., когда писались его мемуары, Вяземский был жив, еще не сошел с литературной сцены и Розен поддерживал с ним отношения. Тем более вероятным представляется рассказ Розена, который осмысляется как одно из звеньев длинной цепи литературных фактов. Вместе с тем, конечно, мемуарист переставил акценты и дал наблюдению собственную интерпретацию, как это делал нередко. Замечание Пушкина касалось не творчества Вяземского в целом, как думал Розен, но одного лишь эпизода его литературной биографии, которого Розен, сам того не зная, коснулся в случайном разговоре, заново пробудив в Пушкине весь круг связанных с этим эпизодом ассоциаций.
К изучению «Дум» К. Ф. Рылеева[83]
Думы К. Ф. Рылеева принадлежат к центральным и наиболее изученным явлениям в гражданской поэзии 1820-х годов. Их всестороннее текстологическое и историко-литературное исследование ведется более столетия. Уже в фундаментальном труде В. И. Маслова «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева» (Киев, 1912) содержался богатый материал для их комментирования и интерпретации; издания Рылеева, монографические работы и статьи о нем, появившиеся в советское время, подняли изучение дум на качественно новую ступень[84]. Можно считать, что в настоящее время ни в эдиционном, ни в историко-литературном отношении думы Рылеева не представляют сколько-нибудь неясной проблемы, — и, может быть, этим обстоятельством следует объяснить определенный спад исследовательского интереса к ним за последние десятилетия: мы можем назвать за это время лишь единичные работы, специально им посвященные; последней по времени является их академическое издание, осуществленное в серии «Литературные памятники», с полным сводом вариантов и вступительной статьей Л. Г. Фризмана[85]. Вместе с тем и в изучении дум, как и в любой научной области, остаются вопросы спорные и нерешенные или решенные не до конца и преждевременно снятые с повестки дня. Цель настоящих заметок — привлечь внимание к некоторым из таких вопросов; они касаются текста и историко-литературной интерпретации отдельных дум и в дальнейшем, как нам кажется, могут послужить отправной точкой для более углубленного анализа.