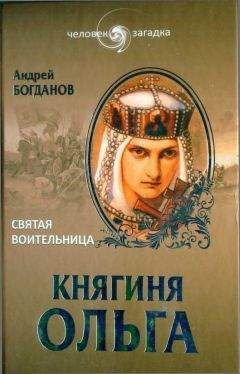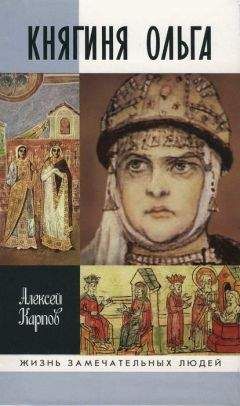Виталий Мельников - Жизнь. Кино
Наступила осень, и все в деревне готовились к зимовке: утепляли оконные рамы, поправляли завалинки, конопатили стайки для скотины, чтоб не дуло зимой коровам, поросятам и курям. По сибирскому обычаю жилой дом и скотный двор помещались под одной крышей – так сподручнее ухаживать за скотиной, а в лихую погоду можно неделями отсиживаться от вьюг и морозов. В таком доме, как в крепости!
Цынгалы – это десятка четыре потемневших от непогоды бревенчатых крепостей, рассыпанных на полоске земли между берегом Иртыша и тайгой. Плюс – сельповский магазинчик, плюс – аккуратная часовенка, плюс – длинная изба-пятистенка – Цынгалинская неполная средняя школа. Вот, кажется, и все. Пароходы здесь пристают редко – только, когда запасаются дровами. Электричества нет. Почту сбрасывают с пароходов на ходу. До ледостава всякая связь с внешним миром прекращается. Когда лед окрепнет, по Иртышу накатывают санную дорогу, и по ней от Омска и Тобольска тянутся обозы и мчится почта. Такую почту называют «веревочка», потому что обозы в пути вытягиваются на узкой санной дороге в длинную цепочку. Через деревеньки и села почта проскакивает со звоном колокольчиков, лихим гиканьем и свистом, а потом снова вытягивается в «веревочку» на белых просторах замерзшей реки. Цынгалинские школьники все знали и понимали про «колокольчик однозвучный» и про «глушь и снег навстречу мне». Знали не по книжками, а по жизни. Так было при Пушкине, так было при двоюродном моем деде, лошаднике Евграфе, так было и при нас, в одна тысяча девятьсот сороковом году.
Роньжа
Ближе к первому сентября в Цынгалы стала съезжаться местная интеллигенция. Однажды, когда я шел мимо школы, меня окликнул с лестницы толстый человек в перепачканной известью ситцевой рубахе.
– Ты ученик? – спросил он меня.
Я сказал, что ученик.
– Тогда лезь ко мне! – и толстяк стал карабкаться на крышу.
Я полез за ним. Когда мы добрались до конька, толстяк отдышался и объявил: «Считай, что у нас сейчас урок труда – будем трубу белить!» Это был преподаватель истории и географии Григорий Григорьевич Григорьев, а сокращенно – Гри-Гри. Утром я проснулся оттого, что кто-то с улицы меня негромко окликает: «Ученик! Эй, ученик!» Под окном опять стоял Гри-Гри в старом ватнике и с берестяным коробом за плечами. Из окна выглянула мать, и историк церемонно поклонился. Они познакомились, и я получил разрешение на совместную с Гри-Гри ознакомительную прогулку.
Прогулка началась с того, что мы набрали полный короб спелой черемухи. Лазал по деревьям я, потому что Гри-Гри мешала полнота. Потом он отдыхал на пеньке, а я ел малину. Увлеченный этим приятным делом, я не сразу почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Из сумрака кустов уставились на меня два блестящих глаза. Мы долго смотрели друг на друга – два глаза и я. Потом я отступил, и под ногой хрустнула ветка. Надо мной вдруг выросло что-то огромное и мохнатое. Мохнатое заревело, открывая розовую пасть. И тут же я услышал голос Гри-Гри. Он громко кричал нехорошие слова, которые мне запрещено было произносить. Мохнатое отступило, не то застонало, не то захрюкало и кинулось прочь, ломая кусты. Гри-Гри даже не слез с пенька.
– Ты матери не говори, что я тут ругался, – попросил Гри-Гри, – медведи, видишь ли, матерщины боятся!
– Это был медведь? – испугался я.
Историк равнодушно кивнул.
От малинника в лес тянулась желтая полоска чего-то жидкого.
– Это его от страха медвежья болезнь прихватила, – пояснил Гри-Гри, – а пошли-ка на Чугас-гору! Там интересно!
С Чугас-горы видно было, как извивается Иртыш и теряется в бесконечности лесов, как плывут по нему словно из спичек связанные плоты и одиночные, совсем игрушечные, лодки. Но интереснее всего было у подножия Чугаса, на остяцком кладбище. Остяки здесь зарывали своих покойников, а на могилах оставляли все необходимое для будущей загробной жизни. У могил на деревьях висели рыболовные снасти, полуистлевшие звериные шкуры и малицы. Лежали проржавевшие ножи, наконечники копей и острог. И даже старинное кремневое ружье лежало! Чуть ли не времен Ермака! Были здесь и женские бусы, ожерелья, посуда… Здешние жители – и остяки, и русские никогда ничего не трогали на этом кладбище. Даже мальчишки! Гри-Гри рассказывал, как жили эти люди. Как они охотились и ловили рыбу, во что верили и как храбро защищались от казаков Ермака. Он бегал среди могил, размахивал руками и наглядно изображал, как и что происходило много лет назад. В эти минуты он совсем не казался толстым и смешным.
Началась учеба. Директор Трофим Моисеевич произнес речь о пользе учения, о том, как нас всех любит дорогой товарищ Сталин, и еще о том, что бродяжничать в тайге без спроса, да еще целыми неделями, нехорошо – Сталин нас за это не похвалит. При этом директор поглядывал на задние ряды, где обосновались ребята ханты и манси. Как рассказывал Гри-Гри, эти ребята имели обыкновение сбегать на охоту или рыбалку в процессе обучения, прямо с урока, иногда даже через окно. «Особенно, с уроков истории», – огорчался Гри-Гри.
Потом директор обратился к новичкам. Он назвал мою фамилию и сообщил, что я приехал с Дальнего Востока, где наши пограничники ежедневно бьют японских самураев. Все головы повернулись ко мне. Я встал и сказал, что видел одного японца, и он погрозил мне кулаком. «Молодец, Мельников!» – почему-то похвалил меня директор. Знал бы я, к чему это приведет!
На каждой перемене меня обступали ребята и требовали всяких боевых подробностей. Чтобы их не огорчать, я эти подробности выдумывал. Тогда они стали требовать продолжения. Наступили для меня тяжелые времена. Каждый раз, собираясь в школу, я мучительно вспоминал, что врал накануне. Я должен был держать в голове кучу выдуманных мною подробностей и продолжений, чтобы меня не уличили. Кроме того, мне тут же прилепили прозвище «самурай»! Оно держалось до тех пор, пока ко мне не привыкли.
В своей торжественной речи Трофим Моисеич особо обратился к группе совсем взрослых девчат и парней. У одного даже были усы. Новички приехали из дальнего лесного урочища и говорили, как моя подружка Верка, на «мове». Но Верка была «голодающая», а новички были спецпереселенцы. Новички в школе никогда не учились и теперь должны были начать с первого или второго класса. Директор сказал, что он за них поручился и что «сын за отца не ответчик».
В их спецпоселение ездила мать по поручению директора, а меня взяла с собой. Это был самый настоящий украинский хутор, как у Гоголя! Хутор стоял в глухом урмане[4], на расчищенном от деревьев пятачке. На этом пятачке лепились беленькие хатки, их окружали плетни, на плетнях – глиняные горшки, а за плетнями – подсолнухи. Живя в лесу, переселенцы бревенчатых домов не строили, а лепили глинобитные хаты, как делали их деды-прадеды на теплой степной Украине. А еще глубже в тайге жили какие-то молокане. Они всех сторонились и детей в школу не пускали. Год назад к молоканам прибыли малиновые для установления личностей. Но молокане заперлись все в одной избе, а избу подожгли.