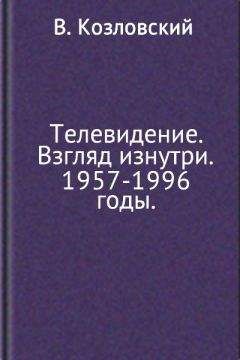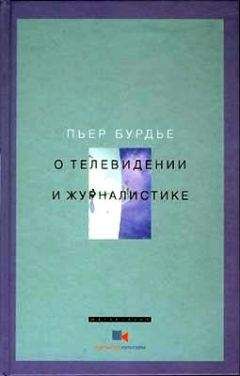Леон Островер - Петр Алексеев
И вдруг его как бы осенило: да ведь девушка в беличьей шубке дочь старого доктора! Надо немедленно побежать к ней, предупредить!
Дверь открыл сам доктор.
— Что желаете, молодой человек?
— У меня дело к вашей дочери.
Старик испытующе взглянул на Петра.
— Моей дочери нет дома.
— Когда она вернется?
— Не знаю… Не знаю, молодой человек.
Алексеев в большом затруднении. Он знает: доктор порядочный человек, — случай с рублем убедил его в этом, — но можно ли ему сказать, что его дочь выполняет поручения арестованных студентов? И все же решился:
— Скажите ей, пожалуйста, что к Петру Алексееву не надо ходить.
— А кто этот Петр Алексеев?
— Я.
— И к вам моя дочь ходила?
— Должна была прийти.
Доктор запер входную дверь на ключ.
— Идемте.
Он ввел Алексеева в кабинет.
— Расскажите, кто вы, зачем вы нужны моей дочери и почему к вам нельзя.
Петр рассказал.
— Немедленно уезжайте из Преображенского! Слышите? Немедленно! Верочка арестована! Слышите? Вчера ночью ее арестовали. А сегодня пришли за вами. Садитесь. Я вам перевязку наложу. Для видимости. За моим домом следят.
Он накрутил два бинта на правую руку Петра, потом довел до двери.
— Есть у вас деньги?
Петр вытащил из кармана рубль: хотел уплатить за перевязку.
Старик возмутился:
— Я спрашиваю: есть ли у вас деньги на дорогу?
12Петр Алексеев переехал в Петербург. В центре города — порядок и чистота. Монументальные здания тянулись ровными шеренгами, блестя зеркальными окнами и как жар сиявшими медными скобками парадных подъездов. На этих улицах, в этих домах жили фабриканты, чиновники — жили господа.
За пределами нарядного района царили нищета, запустение. Вместо тротуаров — доски; при каждом шаге они хлопали, обдавая пешехода фонтанами грязи. Домики маленькие, выкрашенные в желтый скучный цвет.
Алексеев рано узнал, что есть два Петербурга. Еще мальчиком он распевал в красильне:
Столица наша чудная
Богата через край.
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай!
Фабрика Торнтона, куда поступил Петр Алексеев, была крупная: десятки прядильных машин, сотни ткацких станков, паровые установки, больше тысячи рабочих.
Петр Алексеев стал присматриваться к соседям по ткацкой, прислушиваться к их разговорам и из многих намеков понял, что где-то за Невской заставой живут студенты, которые, подобно Косте Шагину, охотно дружат с рабочими.
На фабрике Алексеев близко сошелся с наладчиком Ваней Смирновым. Их влекло друг к другу, хотя люди они были разные. Ваня Смирнов — нежный, с тонким лицом и мягким взглядом. Алексеев же поражал размахом плеч, мощной грудью и резкой, как бы нарочито грубой речью. Усы черные, густые; они придавали излишнюю суровость его и без того суровому лицу. Но наладчика Смирнова роднила с ткачом Алексеевым тоска по справедливости.
Уже второй час простаивает станок Петра Алексеева. Ваня Смирнов протирает флянцы, моет керосином втулки.
Окна ткацкой выходят на юг, и летнее солнце, проникая сквозь пыльные стекла, освещает бок станка немощным, приглушенным светом. На полу, у самых ног Алексеева, копошатся солнечные зайчики. Петру грустно: почему-то вспоминается село Преображенское, жалкий Осип Осипович…
— Петруха, ты о чем задумался?
— Хорошего человека вспомнил.
— Где он, этот хороший человек?
— Помер. Понимаешь, Ваня, лет ему было много, больше семидесяти, а сердцем был чист, как ребенок.
— Бывают такие люди… И не только старики.
— Это ты прав, Ваня. Бывают. — И тихим голосом добавил: — Вот, говорят, у нас тут за Невской заставой такой человек живет, студент. Синегубом его звать. Говорят, он рабочих грамоте обучает.
Словно из-под земли вырос мастер Келли — жилистый, рыжий. Келли — англичанин, и хотя он уже второй год работает в Петербурге, но знает всего несколько русских слов: сволёшь, мужик свинючий, полючи расшот, ходи к шорту, оштрафлю и молёдец. Этого словаря ему вполне хватает, чтобы объясняться с рабочими, а рабочие его прекрасно понимают: важны не слова, а интонация, выражение лица англичанина.
— Сволёшь!
Это обидное слово сейчас означало: когда же вы, наконец, закончите?
— Скоро, господин Келли, — ответил Смирнов.
— Оштрафлю!
— За что, господин Келли? — спокойно спросил Петр Алексеев.
Англичанин ткнул пальцем в грудь Алексеева:
— Молёдец и мужик свинючий!
Петр Алексеев понял и эти слова: «Ты хороший рабочий, а копаешься, как лодырь».
— Разладился станок, господин Келли. Вот наладчик его выправит — и приступлю к работе.
— Дольго! Ошень дольго!
И англичанин исчез так же внезапно, как и появился.
— А ты, Ваня, действительно копаешься.
— Старье, Петруха, части сработались.
Смирнов, склонившись, стал завинчивать гайку.
Опустился на корточки и Алексеев. Присматриваясь к работе товарища, он неожиданно сказал:
— Ваня, не пойти ли нам к этому студенту? Работаем, работаем, а света божьего не видим. Что мы, насовсем продались Торнтону?
— Думаешь, Петруха, что студент только грамоте обучает? — загадочно спросил Смирнов, не отрываясь от дела.
— А ты, Ваня, испугался? Сразу каторга примерещилась?
— Зачем каторга?
— Так чего же пугаться? Или мы с тобой никакого касательства к жизни не имеем? Или ты в самом деле только «сволёшь и мужик свинючий»? Вот был у меня дед. Умный старик, а все толковал: «Плохо было, плохо будет». А я не согласен. Должно быть хорошо, вот как я рассуждаю. Но откуда хорошему быть? Торнтон нам хорошую жизнь даст?
— И студент ее не даст.
— Верно, Ваня. И студент ее не даст, но он скажет, где она припрятана. Научит, как ее добыть. Я тебе про Костю Шагина рассказывал…
— Был Костя — и нет Кости.
— Если этак рассуждать, то и по улице лучше не ходить, — кирпич может на голову свалиться.
Кругом стоял шум, неумолчный шорох ременных передач, а Алексеев, сидя на корточках, говорил о самом затаенном.
Смирнова, тянуло к студентам не меньше Алексеева, но теперь он лукавил, отделываясь уклончивыми фразами не потому, что не доверял Петрухе: работая с ним несколько месяцев, он успел убедиться, что парень золото, только диковатый, упрямый, с какой-то дубовой несгибаемостью. Можно ли к студенту с таким медведем?
Он поднялся, вытер руки:
— Принимай станок, Петруха! А об остальном поговорим после работы.
13В осенний вечер 1873 года Алексеев с двумя товарищами — Смирновым и Александровым — отправились к студенту. Сам Синегуб, Сергей Силович — тонколицый, в очках — открыл им дверь и пригласил в комнату.