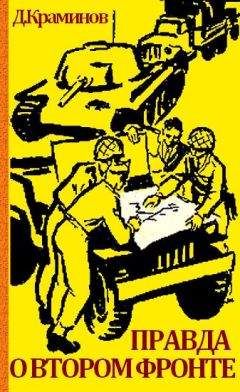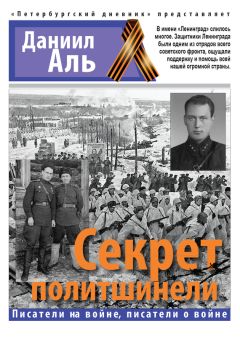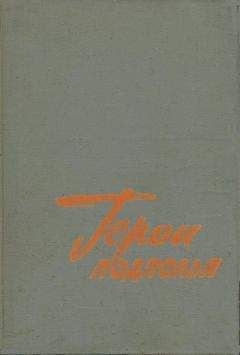Даниил Краминов - Дорога через ночь
- А чем это лучше? Тут ведь сколько мук еще примешь, а конец-то все равно один... Через день-два грозят повесить.
Склонившийся надо мной вздохнул, помолчал немного и, будто обнадеживая, заметил:
- Тут есть люди, которые по два месяца и больше живут.
- Живут? По два месяца живут? А их тоже грозили повесить?
- Грозили.
- Как же это происходит?
- А черт их знает!.. Одних, видно, для чего-то иного берегут, про других, может, забывают.
- Нас этот - как ты его назвал? Дрюкашка? - не забудет.
- Может, и забудет.
- Забудет на день, на два, на неделю, на две даже. А дальше-то что?
- Выиграть полмесяца жизни, брате мой, - великое дело. За полмесяца многое может произойти.
- Что может случиться в этом лагере?
- Многое... И в этом лагере и за его оградой. Главное - не сдаваться и не терять надежды.
- На что надеяться-то?
Сосед уставился своими большими серыми глазами в окошко, помолчал, так и не найдя ответа, потом снова склонился почти вплотную к моему лицу.
- Надеяться обязательно надо. Надежда - это, брате мой, как далекий огонек для путника, потерявшего дорогу в непогожей ночи. Путник пойдет на этот огонек и будет идти и идти, пока не доберется до него. Где огонек, там людское жилье, там спасение. Погаси огонек, и человека охватит страх или еще хуже - отчаяние.
- Понимаю... Надежда ради надежды... Огонек сам по себе...
- Может быть, и так, может быть, и так, - быстро отозвался сосед. Потеряет человек надежду - перестанет выход искать. А ведь нет такого тупика, из которого не было бы выхода.
Я всмотрелся в склоненное надо мною лицо. Истощенное и измученное, оно не вдохновляло. В больших серых глазах не было ничего, кроме тоски. Они, как показалось мне тогда, давно погасли. Нет, впереди у нас ничего не было. Только вот эта залитая дождем площадка с черными бараками вокруг, виселица с огромной перекладиной, вознесенной к низкому небу, да петля, готовая постучаться в заплаканное окошко.
Видимо поняв мое состояние, сосед осторожно, даже нежно погладил мои плечи.
- Не сдаваться и не терять надежды, брате мой... Слышишь? Не сдаваться!
Жизнь и надежда неразделимы: пока человек живет, он не может не надеяться. Не отказался от надежды и я. И чем безвыходное казалось положение, тем сильнее надежда. Я хотел жить. Я очень хотел жить! Поэтому готов был надеяться на счастье, на удачу, верить в случай, в чудо.
В те дни худое, с кровоподтеками и шрамами лицо не раз склонялось надо мною. После этого почти всегда становилось легче: раны и ссадины горели тише, лежать было удобнее, жажда томила меньше. Скоро я знал, что человека, который обмывал мои раны, поил и кормил, именовали Василием Самарцевым, хотя почти все звали его просто "Вася". Двигался Вася быстро, легко, словно не касался земли, говорил звонко, отчетливо, с ясными, почти артистическими интонациями.
Мне крепко запали в душу его слова, что нет такого тупика, из которого не было бы выхода. И я искал его. Искал все время. Трудными днями, отрываясь на минуту от рабской тачки, долгими ночами, просыпаясь от тяжелого сна. Сколько раз мысленно перелетал я через ограду концлагеря, туда, где люди были свободны, где они могли передвигаться, действовать по своей воле! Даже забывал при этом, что и по ту сторону проволоки лежала большая враждебно настроенная страна. У меня не было тогда ничего, кроме надежды. Зато какая сильная, неодолимая это была надежда!
Вася Самарцев укрепил ее, дав моим мечтам и надеждам направление и возможность действовать. Узнав, что я учил в средней школе немецкий язык, а в институте занимался французским и английским, он посоветовал сблизиться и как можно чаще беседовать с людьми, говорящими по-немецки, французски и английски.
- Мы находимся в Европе, брате мой, - напомнил он, - и, когда окажемся на свободе, иностранный язык очень пригодится. Язык - это путеводитель, это средство пропитания и еще многое. Для нас язык, брате мой, - очень нужное оружие...
Я взялся за овладение этим "оружием". Постоянно и бессовестно надоедал соседям-иностранцам: чеху Прохазке, голландцу Хагену, французу Бийе и бельгийцу Валлону. Не оставлял в покое даже молчаливого и надменного англичанина Крофта. Сначала Самарцев наблюдал за моим старанием с одобрительной усмешкой. Вскоре, однако, ему пришлось умерить мое рвение: оно могло вызвать у охранников подозрение.
- Чтобы трудное дело сделать, - заметил он, - одного усердия мало. Нужны еще терпение и осторожность.
Он остановился на короткое время, улыбнулся и добавил:
- И, брате мой, настойчивость...
Это "брате мой" или "брате мои" Вася вставлял в разговор часто, но редко случайно, как делают многие страдающие от навязчивых слов. Призывом к "брате" он обращал внимание на особую важность того, о чем шла речь.
Я так и понял, что настойчивость важнее, чем усердие, терпение и осторожность. Я учился терпению, хотя это было трудно, осторожности, требующей дисциплины и хитрости, и готов был доказать свою способность к настойчивости, проявить которую не мог.
Прошло еще несколько недель, прежде чем я услышал от Самарцева слова, заставившие мое сердце забиться сильнее от радости и тревоги.
Перед вечером одного тяжелого дня Вася и я оказались в дальнем углу песчаного карьера, где работали. Мы были подавлены и молчаливы: в тот день охранники застрелили трех заключенных. И вдруг Самарцев, продолжая грузить тачку, спросил:
- Готов рискнуть, чтобы вырваться отсюда?
Я выпрямился и обрадованно согласился:
- Готов! Хоть сейчас готов!
- Не разгибайся, не разгибайся! - шепотом приказал он. - Не привлекай внимания того черта, что над нашими головами, на краю карьера, стоит.
Я усердно заработал лопатой.
- Только как отсюда вырвешься? Как?
- Придет время, за оградой лагеря окажемся, - ответил Вася. - А там сумеем от конвоя избавиться, если заранее все продумаем и ко всему приготовимся.
Точно сказав последнее слово, он схватил тачку и погнал по доскам наверх. Я последовал за ним в бесконечной веренице тачечников.
Вернувшись с пустой тачкой в тот же угол, я попытался возобновить разговор, но Самарцев тут же прекратил его и взял с меня слово ни с кем не говорить об этом и никогда не упоминать слова "побег".
Лишь убедившись, что я могу терпеть, быть осторожным и держать язык за зубами, он познакомил меня с товарищами по замыслу.
Первым оказался, как я и предполагал, Алексей Егоров. Для своих двадцати трех лет этот парень был необыкновенно зрелым физически и умственно. Он отличался стариковской сдержанностью, чувства свои выражал не словами, в которых почти всегда испытывал недостаток, а действием. Был смел и решителен, с необычайно развитым чувством долга.