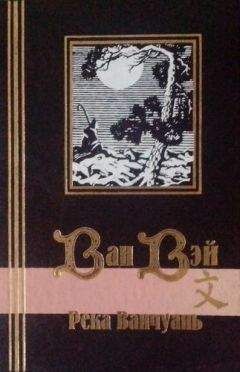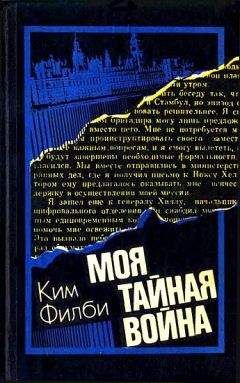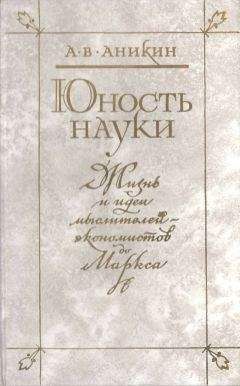Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста
Но вот он стоит передо мной на пороге своей квартиры — пятидесятилетний, но уже седой; на морщинистом лице выделяются живые внимательные глаза.
— Здравствуйте, Игнатий Юлианович…
— Здравствуйте… Проходите сюда и садитесь вот на этот диванчик. — Крачковский ввел меня в кабинет и сел напротив, в кресло у письменного стола. — Так вы учитесь у Николая Владимировича? Он говорил мне о вас. Что же, вы решили посвятить себя арабской истории?
— Да, Игнатий Юлианович, всем сердцем!
— Это хорошо, конечно. — На лицо, слабо выделенное на фоне полутемной комнаты сумеречным отсветом, шедшим в окно со двора, вдруг пала тень. — Однако хотелось бы вам посоветовать: избегайте парадных слов; они настолько захватаны частым употреблением кстати и некстати, что уже не производят особого впечатления. Можно любить науку всем сердцем, можно в ней гореть, пылать и так далее, но не надо об этом говорить. Наука не любит пылких излияний, она жива трезвыми делами; лишь работая тихо, то есть без шума, можно рассчитывать на то, что когда-то люди скажут о вашей работе громко. Впрочем, я не оратор, мне более привычно рассуждать о книгах и рукописях. Итак, вы принесли…
— Вот, Игнатий Юлианович, — сказал я, доставая из портфеля свою находку.
— Так, позвольте взглянуть. Рим, 1592 год… Любопытно. Далее, Панеций… Николай Панеций. Судя по тому, что перед нами текст Корана в подлиннике и с латинским переводом, этот Панеций, по-видимому, издатель? Да, верно, это и указано на внутреннем титульном листе.
Но почему же он напечатал всего двадцать две суры[8] изо ста четырнадцати? Попробуем выяснить… Люблю копаться во всяких справочниках, как и читать комментарии: непременно найдешь что-нибудь новое, о чем и не подозревал.
Он подошел к полке и, взяв какую-то книгу, стал ее перелистывать. Я оглядел стеллажи, стоявшие вдоль стен: мне бы столько книг! В сравнении с этими сотнями фолиантов, ряд за рядом уходивших под потолок, моя библиотечка, постоянно пополнявшаяся, но все еще умещавшаяся на половине столика у койки в общежитии, показалась мне особенно бедной. Не думалось, что все еще впереди, что надо научиться читать книги, что пока я только еще учусь читать учебники.
— Ну, вот, ведь и действительно habent sua fata libelli,[9] как говорили римляне, — промолвил Крачковский, вновь усаживаясь в кресло у письменного стола. — В биобиблиографическом своде сказано, что Панеций, который был заметным ученым своего времени, вознамерился издать полный текст Корана, снабдив его переводом на латынь, дабы каждый мало-мальски образованный человек мог составить себе представление об этом первом памятнике арабской литературы. Но печатание было дорого, своих денег хватило на издание всего двадцати двух сур, а субсидии для полного осуществления замысла он не получил. Так бывало, удивляться тут нечему: в справочнике высказывается предположение, что свою роль сыграло здесь римское духовенство; конечно, отцам католической церкви вряд ли хотелось, чтобы паства читала какую-либо литературу, кроме христианской. И вот спустя некое время, возможно, еще в восемнадцатом веке, этот обрубок священной книги мусульман какими-то путями попадает на «хладные брега» Невы; забытый, дремлет среди своих собратий на полке библиотеки, безмолвно провожая с арены жизни одно поколение за другим; и, наконец, удостаивается мусорной корзины. К счастью, это все же не «наконец»: благодаря тому, что детище Панеция попало вам в глаза, я думаю, со временем сможет появиться научный этюд, посвященный его истории, а также выяснению принципов и стиля латинского перевода Корана. Видите, как полезно бывает работать в библиотеке! Вы что же там — в штате или это курсовая практика?
— Я там работаю на половине ставки, Игнатий Юлианович. Три часа в день, по окончании лекций.
— Вот как! А что, стипендии не хватает?
— Хватает. Но только люблю покупать книги.
— О! Что же именно?
— Да вот… Собираю по томику энциклопедию Брокгауза и Ефрона… Потом, есть у меня «История человечества» Гельмольта… Полный атлас… У цирка, на ограде Симеоновской церкви, прямо на каменном постаменте стоят букинистические шкафчики; сколько там интересного! А на Невском приобрел арабскую хрестоматию Гиргаса и Розена с гиргасовским словарем…
— Это сейчас большая редкость, — заметил Крачковский. — И, должно быть, цена высока?
— Семьдесят пять рублей. Но ведь это будет нужно в течение всей жизни, правда, Игнатий Юлианович? Такие книги…
— Конечно. Особенно словарь Гиргаса — без него арабист как без рук. Есть много других словарей, но этот — единственный в своем роде. Например, Лэн, Дози, Казимирский очень полезны, это действительно великие труды, но Гиргас еще и специализирован… Ну, а скажите, вы бываете у букинистов на Васильевском? Здесь тоже ведь есть хорошие лавки. Вот, если пойти по нашей Седьмой линии до Среднего проспекта — почти на углу, в подвальчике… Затем, на Большом, у Андреевской церкви… Если же вы переедете Тучков мост, скажем, на трамвае восемнадцатого маршрута и этим же трамваем двинетесь по Большому проспекту Петроградской стороны, то, если не ошибаюсь, на второй, а потом на четвертой остановке тоже будут гнездиться букинисты. Среди них есть такие виртуозы, которые удовлетворяют любой вкус; мне самому подчас удавалось приобретать у них уникумы, которые уже и не думал держать когда-нибудь в руках…
Крачковский задумчиво оглядел свою библиотеку. Потом поднялся с кресла и, взяв с ближней полки книжку в серой обложке, протянул ее мне.
— Раз вы такой книголюб, возьмите на память.
Это был экземпляр книги, которую Крачковский любил больше других своих работ. В ней описывалась необычная жизнь египетского шейха Мухаммеда Тантави, сто лет назад сменившего знаменитого «барона Брамбеуса» — постаревшего Сенковского — на посту профессора арабистики Петербургского университета. Она доныне стоит у меня на книжной полке. Пожелтевшая страница титула сохранила дату моей первой встречи с Игнатием Юлиановичем Крачковским: 29 марта 1934 года.
* * *
В следующем учебном году, занимаясь на третьем курсе исторического отделения, начал я ходить и на второй курс лингвистического, где при кафедре семито-хамитской филологии Александр Юрьевич Якубовский стал читать лекции по истории арабского халифата, а Крачковский — лекции по арабской классической литературе. Курс Якубовского, историка и археолога, интересовал меня главным образом своим содержанием — ведь я тоже готовился в историки, все более склоняясь при этом к медиевистике, и здесь мое внимание привлекали все детали. Курс Крачковского, помимо содержания, имел для меня особое значение из-за личности лектора. Титул академика окружал эту личность ореолом святости; я вслушивался в каждое слово, взвешивал его в себе, и мне казалось, что сказать можно только так и никак иначе; гладкие точеные слова нанизывались одно за другим, создавая светившуюся холодным матовым блеском нить мыслей. Холодным и матовым — не потому ли, что речь шла о людях, давно покинувших поле жизни, и о старых рукописях? Напрашивалось иногда сравнение с лекциями Евгения Викторовича Тарле, которые уже не в сырых полутемных помещениях дворовых пристроек, а в теплых просторных аудиториях главного здания института, с видом то на Неву, то на старинный Филологический переулок, я слушал в эти же месяцы. Евгений Викторович вел курс «Международные отношения в эпоху империализма». Он входил в переполненный зал — его слушали не только студенты, но и много посторонних — и, отрывисто поздоровавшись с присутствующими, начинал расхаживать у классной доски. Потом раздавалось: «Седьмого апреля 1912 года в шесть часов вечера французский министр иностранных дел пригласил к себе русского посла и сказал ему следующее…». И потекла, все дальше раздвигая берега, повесть о сближениях и поединках дипломатий, о многозначительных взглядах за столом на рауте и столь же не случайных акцентах речей, о красноречивых обмолвках и недомолвках. Яркие слова и патетический тон лекции производили большое впечатление, но не была ли связана эта яркость с относительной хронологической близостью к нам описываемых событий? Позже я понял, что предмет и стиль повествования, по крайней мере в лекционной практике, не имеют прямой связи. Можно говорить бесстрастно о новых событиях и в приподнятом тоне — о древности, все зависит от эмоционального устройства натуры, от ее темперамента. Знаменитый профессор Тарле был скрупулезным исследователем, но кроме этого — блестящим оратором, дипломатом и, в некоторой мере, актером. Крачковский не любил позы; он подчинил все свои способности одной — исследовательской; в этом он видел средство для непрерывного самоусовершенствования на избранном поприще. И он достиг таких высот в арабистике, что смог создать оригинальное, сделавшее его имя в истории науки вечным. Была в таком самоограничении определенная опасность для будущего любимой им отрасли знания: ученый, излагающий факты и приглушающий эмоции, которые они излучают, занимая положение эталона, может, сам того не желая, послужить образцом для тех из числа его учеников, которые, сами не исследуя, излагают открытые до них явления и на основании этого внешнего сходства считают себя учеными; они враждебны эмоциям, ибо последние якобы мешают людям стоять на «твердой почве трезвых фактов». Но внутренняя страстность натуры Крачковского, мягким светом переливающаяся на страницах его многочисленных трудов, имела такую силу, что передалась яркой плеяде питомцев его школы, среди которых Юшманов и Кузьмин, Петров и Эберман, Оде-Васильева и Кашталева, Салье и Виленчик, Церетели и Ковалевский своими свершениями навсегда останутся в памяти науки.