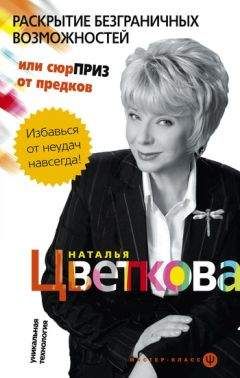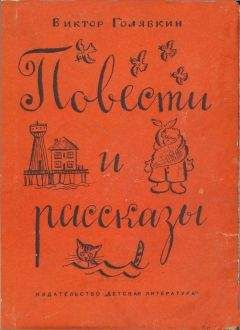Борис Панкин - Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах
В свои шестнадцать лет я был достаточно начитанным «вьюношей», и персонажи романов Лиона Фейхтвангера, Генриха Манна, филистеры-бюргеры моего любимого Генриха Гейне сразу встали перед глазами. Сомкнулись жизнь и литература.
Оказалось, что не я один видел Фрица (как ни странно, именно так его звали) в описанной выше ситуации.
За вечерним чаепитием пошли разговоры о Фрице и Вилли: он бы себе такого никогда не позволил как человек из рабочих, которого нуждой да голодом не удивишь.
– Гросс-капиталист, – передразнил отец. – Между прочим, хлеба в день он получает больше, чем вы, – кивнул он в нашу, матери и мою, сторону. – Да и похлебку им в зоне дают – пальчики оближешь.
Супчика мне этого довелось вскоре попробовать, когда всех нас, членов семей сотрудников ЦРБ, пригласили на праздничный вечер и концерт самодеятельности, который давали военнопленные. Суп оказался действительно очень вкусным и даже тогда отдавал сразу полюбившимися мне ароматами кухни, которую я впоследствии определил для себя как восточноевропейскую.
Что же до концерта, то в памяти сохранились лишь какие-то лошади с жирафами с армейскими бутсами на ногах, которые прыгали по сцене, издавали неприличные звуки и роняли из-под матерчатых хвостов коричневые кругляши, катившиеся под ноги взвизгивающих от восторга зрителей в поношенных кителях и френчах со срезанными погонами.
Дома, несмотря на высокое положение отца в масштабах ЦРБ, было хоть шаром покати. К хлебной ковриге, которую мать получала по отцовской и трем нашим иждивенческим карточкам, тянуло нас как магнитом. Оладьи пекли из картофельных очистков, таких же, какие Фриц надеялся выловить в помойном ведре. Картошку, почему-то почти всегда подмороженную, ели с каким-то бурым жидким маслом, которое называлось знакомым словом – постное, но ничего не имело общего ни с подсолнечным, известным мне по Сердобску, ни с кукурузным.
Суп варили из костей, которые отец выменивал на бойне на какие-то списанные детали. Вот тут-то нас и поджидала беда. На отца донесли, что он, мол, разбазаривает вместе со своими заместителями производственное оборудование. Приехала комиссия. Дело попало в суд. Тянулось оно долго. О развитии событий я мог догадываться лишь по нервному ночному перешептыванию отца и матери за стеной.
С наступлением летних каникул меня отправили к бабушке в Сердобск, первый раз после окончания войны. И там, на берегах милой моему сердцу Сердобы, заготавливая для бабушкиного козьего поголовья сено и веточный корм, я совсем было забыл о нависшей над семьей опасности. А вернулся как раз под заседание суда. Накануне отец рассказал мне, в чем было дело, и сказал, что виноватым себя не чувствует, но готовым надо быть ко всему. Я все молча, наклонив голову и роняя слезы, выслушал, но сморозил в ответ такое, отчего и сейчас, при воспоминании, кожа становится гусиной от стыда:
– Если виноват, надо отвечать…
Совсем в том же книжном духе, как тогда дяде Васе… Отец так же странно, как и младший брат его, словно на чужого, посмотрел на меня… Мать запричитала:
– Что ты такое, Боря, говоришь. Папа ж ничего такого не… Да мы бы все с голоду, если бы не…
Суд состоялся и приговорили отца к году условно, то есть с выплатой 25 процентов ежемесячного жалованья. Отец словно с того света вернулся. Приговор воспринял как награду. Родители чуть ли не до утра шептались опять за стеной, но уже совсем в иной тональности. Поминали добрым словом то секретаря райкома партии, который «поверил», не исключил до суда, как обычно делалось, из членов партии; судью, который «во все вникнул, разобрался по совести», свидетелей, которые «не побоялись всю правду сказать»…
Утром Вилли повез меня в школу и ни разу не пожаловался на то, что «глава болит».
Снова и снова «кавалер»
Золотая медаль в те годы давала право поступления в любой вуз без экзаменов. Достаточно было подать заявление. Серебряная медаль предполагала собеседование по двум предметам. На филфаке МГУ это были литература и иностранный язык.
По литературе со мной беседовали два аспиранта. Одного звали Борис Стахеев, другого – Анатолий Бочаров. Следы первого я потерял вскоре после окончания университета. Со вторым мы еще много лет соприкасались на общей для нас литературно-критической ниве. При первой нашей встрече мне было не до того, чтобы разглядывать моих экзаменаторов. Но, как мне довелось убедиться позднее, это были два совершенно разных человека.
Стахеев, который поначалу запомнился острее, был, видимо, из тех, кто, подобно Борису Когану, «с детства угол рисовал», да и сам состоял из одних углов. Невысокий, худой. Ворот рубахи расстегнут, пиджак с разворотом плеч под сто восемьдесят градусов распахнут, голос не по росту зычный, правая рука либо поднята в трибунном жесте, либо рубит воздух короткими сильными движениями. Словом, комсомольский вождь, какие мне тогда, признаюсь, нравились. Бочаров – сама мягкость. В движениях, в позе, в звуках голоса, который не услышишь, если не напряжешься. Но именно он спросил меня относительно Бабаевского.
Спросил и, видимо, сам пожалел об этом, когда я понес, только в более развернутом виде, все то, чем еще недавно озадачил Геннадия Исааковича: зачем так громко и утомительно клясться в любви к Родине, к партии, к товарищу Сталину…
При упоминании имени вождя Бочаров словно бы посуровел и не без опаски бросил взгляд на Стахеева, у которого обветренная кожа на лице еще более обтянула острые скулы.
– И все ему сразу удается. Главным образом потому, что на груди у него «Звезда» Героя Советского Союза. Но ведь не у каждого такая «Звезда».
Стахеев слушал молча и угрюмо, Бочаров мягко и настойчиво возражал, что, мол, дело не в «Звезде», а в характере героя, в его настойчивости, самоотверженности, боевом опыте, который ему давала война…
Много позднее он объяснял мне, что, бросая эти дежурные фразы, пытался направить мои рассуждения в требуемое для достижения цели русло. Я же, воодушевленный шаблонностью его аргументов, гнул свое. Мол, все-таки, если бы он добился того же, но как обычный фронтовик, читатель больше бы верил в его достижения.
– А вы разве не верите? – впившись в меня взглядом, быстро спросил Стахеев.
– Да нет, я верю, – заблажил я, вдруг припомнив предостережения Геннадия Исааковича, – но…
– Ну вот и хорошо, что верите, – прервал меня Бочаров, который, видимо, был за старшего в этой связке.
– У меня больше вопросов нет.
И посмотрел на Стахеева. Потом на меня. «Заткнись, дубинушка», – прочитал я в его взгляде.
Стахеев молчал. Бочаров взял мой «обходной лист», или как там его называли, и, что-то начертав в нем, протянул Стахееву. Тот сидел в задумчивости. Я замер, осознав уже совершенно отчетливо, что сейчас в один миг могут рухнуть все мои планы и надежды.
![Дарья Ардеева - Запретные территории [СИ]](/uploads/posts/books/77022/77022.jpg)