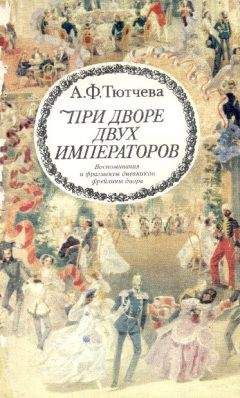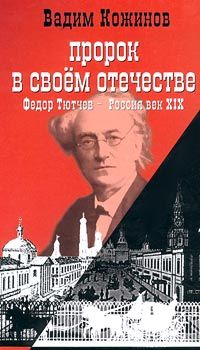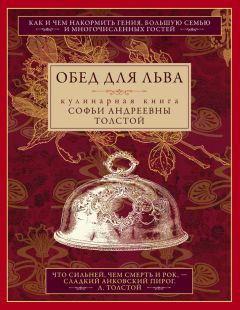Вадим Туманов - Всё потерять - и вновь начать с мечты…
Николайчук покраснел:
— Пойми, у меня сидели другие замы, я не мог продолжать разговор…
Но я уже не могу остановиться:
Ты забыл, какие мы были в молодости. Теперь ты замминистра. Ну и что?! — и пересказал ему картинку, нарисованную Высоцким: — Ты, наверное, думал, что я звоню с вокзала и буду просить четвертак?
Что ты, Вадим. У меня твоя фотография, я всегда помню тебя и ребят.
Потом он действительно передал мне фотоснимок, на котором по-приятельски сидят два молоденьких штурмана — он и я. Кто тогда знал, какими разными окажутся наши судьбы.
Прошло еще три года. Время от времени мы с Витькой перезваниваемся и изредка видимся. Он уже не замминистра, вышел на пенсию.
Как здоровье, Витя? — спрашиваю я.
Глаза, Вадим, отказывают — слепну.
Поедем к врачам.
Ну что ты, Вадим. Я из своей комнаты давно никуда не выплываю…
Первым следователем по моему делу был капитан госбезопасности Фролов. Невзрачный, хитроватый человек, запомнившийся мне своими вопросами, как бы случайными, не имевшими никакого отношения к истории мошенничества, к которой меня решили сделать причастным. Обвиняемым в подделке документов для получения груза был Костя Семенов, с которым мы вместе плавали на «Ингуле» и на «Емельяне Пугачеве». Мое знакомство с Костей давало основание следствию обвинить меня в соучастии. Был ли я на самом деле соучастником, знал ли о подлоге и не сообщил — это называлось тогда недоносительством — или как-нибудь иначе был причастен — детали, которые для обреченного уже не имели значения.
На суде я был в ярости. Когда человек украл метлу и его за это сулят, ему обидно, что попался, но винить некого, кроме самого себя: пусть наказание неадекватно проступку, ему хотелось бы получить срок поменьше, но он знает, что метлу-то он украл. Он не злится ни на следователя, ни на существующую власть. Но если он не украл метлу и знает, что не виноват, а его обвиняют, в человеке ненависть ко всему и ко всем.
Допросы не предвещали ничего плохого. Следователь Фролов между прочим спрашивал(действительно ли я говорил в кругу друзей, будто люблю Есенина, и правда ли, что насмехался над Маяковским. Да, признавался я, мне и сейчас нравится первый и я не понимаю второго.
Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, — смотрит на меня Фролов. — Вам знакомы эти слова? Правда, что вы отказались осудить перед студентами американский империализм, как вас просило Политуправление пароходства? И даже утверждали, что в Америке хорошо?
Вы это и сами знаете, гражданин следователь.
А в Дайрене вы ездили на рикшах?!
Там все на них ездят, больше не на чем.
А вы не подумали, что, эксплуатируя бедного китайского рик шу, вы подрываете основы интернационализма?
Я же ему заплатил!
Иногда нервы не выдерживают, я срываю злость на надзирателях тюрьмы. И снова изолятор. Там можно встретить весьма колоритные фигуры. Мне запомнился владивостокский вор Володька Лопухин, по кличке Лопоухий, лет сорока. Я не встречал людей, которые бы так страдали без курева. Он часами мог просить у надзирателя: «Дай покурить!» Однажды, желая хоть как-то привлечь к себе внимание и выпросить курево, он пришил пуговицы на голый живот. Надзиратель посмотрел и сказал: «Ты лучше себе член пришей!» И захлопнул кормушку. «Ладно!» — сказал Лопоухий. Сделав то, что предложил надзиратель, снова постучал. Когда тот увидел его «работу» — просто одурел. У него отвисла челюсть. Лопоухий сработал на совесть. Надзиратель полез в карман, бросил в окошко полпачки смятого «Прибоя»:
— На, кури!
А время идет.
Суд над нами с Костей объявляют закрытым, кроме обычных участников заседания и нас, обвиняемых, в комнате никого. Боясь, что на меня не наберется обвинений для статьи 58–10, следователи притащили меня к делу, к которому я вообще не имел никакого отношения. Я сейчас не помню в точности, но речь шла о том, что я передал Володе Овсянникову, штурману другого парохода, какой-то бланк, который, оказывается, кто-то использовал не по назначению. Единственное, что было ясно мне и, наверное, всем участникам судебного заседания, так это старание следствия во что бы то ни стало, под любым предлогом посадить меня. По этому делу прокурор просил дать мне шесть лет, как и Косте Семенову. Но поскольку я говорил грубо и на повышенных тонах, судья мне дал пятнадцать и распорядился вывести из зала. Я никогда не считал себя виновным по этой статье. Поэтому, получив буквально через несколько дней по статье 58–10 восемь лет, я никогда не обращался с просьбой о пересмотре того дела. Костя Семенов из лагеря писал ходатайства, и его освободили «за отсутствием состава преступления».
Запомнилось, как судья меня спросил: «Почему с такими настроениями вы вступали в комсомол?» Я ответил: «Теперь, сидя в тюрьме, понимаю, что был молод и глуп…»
Вскоре после суда нас перевозят под Владивосток, где в районе Второй Речки за несколькими рядами колючей проволоки известная пересыльная тюрьма № 3/10. Эти два слова «три-десять» хорошо знал весь Восток Союза. Для десятков тысяч людей именно отсюда начиналась дорога на Колыму. Уже в первые дни, попав в барак, я услышал смешные и грустные рассказы об истощенном до предела полубезумном поэте, который здесь сидел лет десять назад, то есть в 1939 или 1940 году. Потом на Колыме я встречу среди солагерников Пичугина, Мамедова — оба до ареста были партийными работниками высокого ранга — и Еськова, когда-то командира Красной Армии, об этих троих рассказ впереди. Они прошли через «три-десять» в конце тридцатых годов и уверяли, что в их бытность на пересылке лагерная прислуга, ссученные, с ведома администрации утопила странного поэта в уборной. Мне неприятно об этом писать, тем более, что никто из них сам тому свидетелем не был, только слышал от других, а легенд и мифов в зонах бытует достаточно. Но я решаюсь предать бумаге, что слышал. Имя того поэта было — Осип Мандельштам.
В воспоминаниях Н. Я. Мандельштам содержатся свидетельства о смерти поэта в лагерном лазарете Второй Речки от тифа. Но никто из свидетелей, как верно замечала вдова, не закрывал Осипу Эмильевичу глаза и не хоронил, потому истиной на самом деле может быть любая версия. Один бывший колымский зэк пытался утешить Надежду Яковлевну: «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, иначе он бы поехал на Колыму».
Расскажу, какой я увидел пересылку «три-десять» на Второй Речке в начале 1949 года. В зоне было множество бараков. Трудно даже примерно подсчитать, сколько в них могло находиться людей. Тем более, что долго здесь не задерживались. Подобная пересыльная зона в Ванино вмещала до 30 тысяч человек. В «три-десять», я думаю, осужденных содержалось единовременно меньше, но бараки постоянно были переполнены, по преимуществу — направляемыми на Колыму. Основали пересылку в 1931-32 годах, когда начиналась отправка осужденных в леса и на шахты «Дальстроя». В мою бытность на пересылке хозяйничала команда известного в прошлом вора — ссученного Ивана Фунта и его подручных, помогавших администрации обеспечивать в зоне порядок, как они его понимали. С новичков снимали сохранившиеся и еще не потерявшие вид вещи. Команда ссученных контролировала работу лагерной кухни, передачи, денежные переводы.